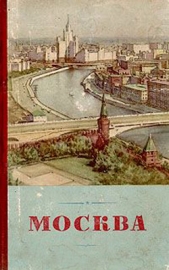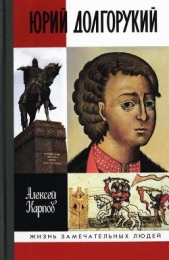Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)

Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник) читать книгу онлайн
ДВА бестселлера одним томом. Исторические романы о первой Москве – от основания города до его гибели во время Батыева нашествия.«Москва слезам не верит» – эта поговорка рождена во тьме веков, как и легенда о том, что наша столица якобы «проклята от рождения». Был ли Юрий Долгорукий основателем Москвы – или это всего лишь миф? Почему его ненавидели все современники (в летописях о нем ни единого доброго слова)? Убивал ли он боярина Кучку и если да, то за что – чтобы прибрать к рукам перспективное селение на берегу Москвы-реки или из-за женщины? Кто героически защищал Москву в 1238 году от Батыевых полчищ? И как невеликий град стал для врагов «злым городом», умывшись не слезами, а кровью?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Савва и Оницифор вернулись к полудню и принесли весть недобрую, разлучную. Наказал великий князь послать к рязанским рубежам московский полк. Матрена подумала, что на брань погонят боярских слуг и холопей (вон сколько их пребывают в безделицах на обширных городских подворьях). Но каково же было ее изумление, когда муж, виновато пряча глаза, сообщил упавшим голосом:
– Порешили на вече выставить с трех посадских дворов одного ратника. Кинули жребий – выпало Оницифору ополчаться.
Все в ней противилось тому, чтобы чужие и грубые люди оторвали от нее сына и бросили неведомо куда, под татарские сабли. Она забыла, что еще ночью думала, что сын ее вырос и настало время оженить его; сейчас же он казался ей несмышленым, слабым, не способным противостоять злу.
– Нет!.. Нет!.. – повторяла Матрена и, прижав к груди Оницифора, часто и нервно гладила его волнистые светло-русые волосы. Но внутренне она все больше свыкалась с мыслью, что деваться некуда, и ей, как когда-то ее матери, придется смириться с тем, что сыну суждено отправиться на рать.
День, предшествующий отъезду Оницифора, показался Матрене и всем домочадцам донельзя суетливым, скомканным, отягощенным ожиданием скорой разлуки. Говорили мало и тихо, играли в странную, всеми молчаливо принятую игру, в которой было важно не то, что ожидало Оницифора, а то, как бы попригоже снарядить его в дальнюю дорогу.
Ожидали Василька. Верили, что он непременно должен заратиться, прибыть в Москву конно и оружно и к вечеру шумно постучаться в ворота. Матрене было бы тогда гораздо спокойнее, ведь сын будет на рати под присмотром удалого брата.
Оницифор крепился, сдерживал в себе горечь скорой разлуки и страх перед будущим. Он даже бодрился, убеждал родных, что ничего дурного с ним не может быть, что через седмицу он вернется, и потому не нужно ему в дорогу столько съестного, лишних чулков, запасных рукавиц, просторного и длинного кожуха. Потому напрасно отец точит ножик, чтобы заколоть борова, ему хватит и старого окорока; напрасно мать зашивает прореху на верхнице – в дороге порты и с прорехой сойдут.
Когда сборы были закончены и мать, в который раз убедившись, что ничего не забыто, задумчиво осмотрела горницу и сказала печально: «Будто все…», домочадцы дружно подумали: а соберутся ли когда-нибудь они вместе в родной избе?
Наскоро поужинали. За ужином слегка охмелевший Оницифор пытался шутить. Но или потому, что шутил он неумело, либо потому, что мать сидела за столом печальна и почти ничего не ела, или оттого, что Василько так и не обьявился, развеять уныние Оницифору не удалось.
Несмотря на то что за день все подустали (ведь даже после обеда очей не сомкнули), и Савва, и Матрена, и Олюшка не могли уснуть. Они лежали молча, стараясь не потревожить сон Оницифора.
Савва помышлял, как нелегко будет ему работать без сына, жалел родных, мучился, что мог пойти на брань вместо Оницифора либо нанять за куны биться стороннего человека, но не сделал ни того, ни другого. Ему было больно и стыдно. Хотя приключись все заново, Савва порешил бы так же. Он кормил семью, и, случись с ним беда, ждали бы родных разор, глад и рабство. Отдать куны тоже было не можно. Куны-то отдашь, а как жить дальше? Время-то какое… Нет, суждено едва оперившемуся Оницифору идти на брань.
Матрена стольких страхов натерпелась, так исстрадалась, наработалась, что находилась в том изнеможенном состоянии, когда печали притупляются и страдающему сердцу хочется покоя. Но когда она закрывала глаза и начинала забываться, с нею происходило что-то необъяснимое: будто множество иголочек слегка кололи внутри головы, и от их прикосновения она ощущала не столько боль, сколько зуд. Когда зуд становился непереносимым, она открывала глаза, и уколы исчезали. «Откуда такая напасть?» – недоумевала Матрена и мысленно просила Господа послать крепкий сон. Но стоило ей опять забыться, как покалывание внутри головы повторялось. Помолиться бы, а затем испить квасу, но не было сил подняться, да и тревожить Оницифора не хотелось.
Олюшка решила не спать. Она загадала, что, если не уснет, Оницифор вернется живым и невредимым. Чтобы легче совладать с дремотой, шептала молитвы. Поначалу сон не брал ее, и Олюшка радовалась, еще усердней просила Спаса, Богородицу, Николу-угодника, чтобы брата не тронули ни востра сабля, ни калена стрела, никакая хворь не взяла, чтобы не померз он в лютую стужу, не потонул в студеной воде и чтобы никто ему зла не чинил, чтобы лютый зверь не погрыз и медведь-шатун не помял. Незаметно усталость и ночь брали свое: очи против воли закрывались, и она падала в глубокую темную яму, тут же спохватывалась и, злясь на свое малодушие, больно щипала себя. Отряхнувши сон, вновь самозабвенно и упрямо шептала сокровенные святые глаголы и только под утро задремала. Лишь Оницифор спал. Сон его был крепок, когда почерневшая и осунувшаяся за ночь мать стала будить его, он спросонья попрекнул, что будят рано. Матрена показала рукой на дверь, и Оницифор уловил доносившийся с улицы людской говор, конский храп и ржание, а также унылый колокольный звон.
Провожали Оницифора у ворот родного подворья. Было еще темно, рассвет только-только обозначился за Москвой-рекой, холмистые сугробы исторгали синеву; и сугробы, и мрачный тын подворья казались больше; в их стылом молчании чудилось что-то угрюмо настораживающее. Подле них отец, мать и сестра выглядели тщедушными.
Оницифор покорно шел прочь от родных, удивляясь неведомой ему силе, которой так безропотно подчинились отец и мать и которая гнала его на брань. Ему было жаль родных и в то же время хотелось поскорее удалиться от них. Внезапно услышал зов матери, обернулся и увидел, что мать отделилась от отца и сестры и, пройдя несколько шагов в его сторону, остановилась, взмахнула рукой. Слезы сами по себе полились из очей Оницифора, захотелось бежать к матери и, отбросив стыд, вновь, как в детстве, прижаться к ней… Но не побежал Оницифор, лишь низко поклонился и побрел дальше, опустив голову и вытирая на ходу лицо.
Ох ты, страдальная земля Русская! Ох вы, прибитые люди русские! Что оставили вы своим потомкам, отгороженным от вас бурым от спекшейся крови ожерельем столетий?
Кости?.. Верно, источены они хладными водами, разбросаны по белу свету буйными ветрами, глубоко втоптаны в землю конскими копытами кочевых орд, пожжены, порублены, посрамлены.
Храмы?.. Эти белокаменные твердыни, главы позолоченные с солнечными крестами… Равнодушно взирают они со своих урезанных столетиями высот на быстро меняющуюся землю. Они не вызывают у равнодушного человека ни содрогания душевного, ни восхищения. Лишь, следуя моде, подивится он не от сердца их величию, отметит, что на века строили пращуры, умело выбирали строевое место.
Иконы ли?.. Перед ними сейчас принято восторгаться, но не тем, что скрыто за потемневшим угловатым рисунком, а самим изображением, странным и подчас непонятным; но теряешься от множества мелочей, поверхностной схожести и загадочных условностей. Лишь иногда чуткой и трепетной душе удается уловить волшебное озарение; с потемневшего лика внезапно запахнет волнующим теплом, и навсегда, до последнего своего мига, заразишься сладостной и мучительной болезнью. И тогда те далекие жившие в былые времена люди не будут представляться бесчувственными призраками; они оживут, их страдания будут печалить, радость – веселить, и все, что было ими пережито, как будто было с тобой, и в своих поступках ты будешь искать их немое одобрение. Только не каждому дано ощутить тот предивный миг.
Что же все-таки оставили нам эти люди?
Печаль, жалость, смирение; разлуку, проводы, которые каждому суждено пережить на нашей земле.
Ах, дальние проводы, долгие сборы! Сколько муки в вас, сострадания и горести! Сколько было вас на Руси – не перечесть! Сколько слов при этом сказано сокровенных, без лукавства и досады, с детской прямотой – не пересказать! Собрать бы те слова, высветить на бесконечной алой ленте – не перенесло бы участливое сердце порушенных надежд.