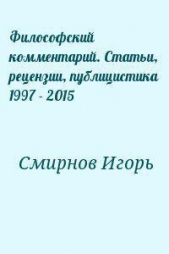Мы шагаем под конвоем

Мы шагаем под конвоем читать книгу онлайн
И.М.Фильштинский - известный ученый-востоковед, автор многих трудов по арабской истории и литературе. На склоне лет он рассказывает о том, что пережито им самим в годы репрессий, когда по доносу он был отправлен в сталинские лагеря. От большинства опубликованных ранее лагерных воспоминаний "Мы шагаем под конвоем" отличаются отсутствием разоблачительного пафоса. Он рисует лагерь как царство трагического абсурда, в котором, однако, есть место любви и состраданию. Фильштинский повествует не столько о себе, сколько о людях, с которыми судьба сталкивала молодого ученого в ГУЛАГе. Каждая глава книги в сущности - это целый роман, сжатый до объема новеллы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фильштинский Исаак Моисеевич
Мы шагаем под конвоем
Фильштинский Исаак Моисеевич — филолог-востоковед, автор нескольких книг по истории арабской литературы, многочисленных вступительных статей к различным памятникам этой литературы, а также их переводов, в настоящее время профессор Московского университета. Он родился в 1918 году в Харькове, в 1941 году окончил исторический факультет ИФЛИ, был призван в армию и направлен на военный факультет Института востоковедения (позднее — Военный институт иностранных языков). В апреле 1949 года И. Фильштинский, работавший тогда преподавателем Военного института, был арестован. Первый следственный год он провел в тюрьмах на Лубянке и в Лефортово, а затем отбывал свой десятилетний срок по статье 58,10 в Каргопольлаге, в Архангельской области, до пересмотра дела в 1955 году. Любознательный, наблюдательный, склонный к психологическому анализу и обобщению молодой ученый впитывал разнообразные впечатления, которые в изобилии поставляла лагерная жизнь. В после лагерные годы бдительные стражи режима не оставляли И. Фильштинского без внимания.
За участие в правозащитной кампании 1968 года он подвергался всякого рода преследованиям и в частности был отстранен от своего любимого дела — преподавания (до этого он читал в МГУ ряд курсов по истории арабской литературы и культуры, руководил научной работой студентов и аспирантов), а в 1978 году у него на квартире был проведен обыск с изъятием «крамольной» самиздатской литературы, после чего тогдашний директор Института востоковедения АН СССР Е. М. Примаков счел за лучшее уволить «компрометировавшего» его сотрудника. Однако И. Фильштинский продолжал работать и публиковать свои труды по арабистике. В 1989 году он отвлекся от своих научных занятий, чтобы написать книгу о лагерном опыте, созревавшую в его сознании на протяжении многих лет. Рассказы И. Фильштинского можно назвать беллетризированными воспоминаниями. Тонкое понимание человеческой психологии и глубокое сострадание к своим сотоварищам по лагерю сочетается в них с аналитическим мышлением и мягким юмором. Это лагерь глазами интеллигента и вместе с тем живого участника всего происходящего.
Основная тема книги — лагерь, а через него и вся наша жизнь как трагический абсурд. Рассказы И. Фильштинского разнообразны и по тематике, и по тону, и по построению: среди них есть и структурированные новеллы о судьбах или событиях, и зарисовки отдельных сцен, часто комических, или скорее трагикомических. Автора интересуют не ужасы лагерной жизни — их в книге практически нет, — а раскрытие человеческой природы в экстремальных и нелепых условиях. Пестрая амальгама рассказов и зарисовок И. Фильштинского, обрамленных авторским введением и эпилогом и объединенных личностью и судьбой автора, которому он скромно отводит в своем повествовании лишь периферийное место, складывается в целостную картину, рисующую лагерную жизнь в совершенно новом ракурсе, — и это существенно отличает книгу И. Фильштинского от всей известной нам до сих пор лагерной прозы.
Жене и другу Анне Рапопорт посвящается
Мой лагерь
О советских репрессиях и лагерях много пишут и говорят, горькую тему эту нелегко исчерпать. Слишком густо вплетена она в общественную память, слишком неразрывно срослась с историей нашего отечества. Однажды я оказался свидетелем своеобразного социологического эксперимента: в собравшейся в одном московском доме компании заговорили о прошлом, и выяснилось, что примерно из трех десятков человек восемь побывали в местах заключения, у семерых погиб кто-то из родителей, а у многих других близким родственникам довелось хлебнуть тюремной и лагерной похлебки. Из моих тридцати двух соклассников по средней школе в разное время было арестовано пятеро, причем двое из них погибли в лагере. В результате лагерная мораль, психология и лексика прочно вошли в быт всех слоев общества. Даже в детских садах дети научаются выражаться по-лагерному. Как-то я прогуливался с женой по университетскому парку на Ленинских горах, рядом, на стадионе, студенты играли в футбол, сопровождая чуть ли не каждый удар по мячу смачным лагерным сленгом, весьма странно звучащим на фоне величественного здания цитадели науки.
Лагерный срок заключенные проходили по-разному — одних непосильные испытания сломили, другие сумели их вынести, а третьи прошли свой путь сравнительно благополучно. Это зависело от многих причин: от статьии срока, местонахождения, психофизических данных, наконец, от возраста. И все же судьбы зека во многом между собой схожи, почти подобны. Несмотря на это, как и во всякой экстремальной ситуации, опыт каждого по-своему уникален.
Мне сравнительно повезло — я провел в тюрьмах и в лагере всего шесть лет, с 1949 по 1955 год. О своем лагерном опыте я не жалею: лагерь помог мне проверить свои возможности и избавил от многих заблуждений.
Я узнал, что булки на деревьях не растут и что очень многие из так называемых «всемирно-исторических достижений», о которых всю мою предшествующую жизнь бубнили институтские профессора, пресса, радио, кино и театр, часто результат нечеловеческого труда миллионов рабов-заключенных. Телами их вымощены и колымские золотые прииски, о которых писал В. Т. Шаламов, и Караганда, и Печора, и Инта, и Норильск, и Воркута и другие бесчисленные лагеря по всей стране.
Меня в лагерной жизни спасало два обстоятельства — сравнительно молодой возраст, и, как это ни покажется читателю этих строк странным, любопытство, интерес к жизни. В повести американского писателя Сэлинджера «Над пропастью во ржи» героя беспокоит судьба уток, плавающих летом в пруду, в холодное время года. Его мучает вопрос: «Куда деваются утки зимой?» На протяжении многих лет, еще в школе, когда арестовывали родителей моих соучеников, а потом и их самих, в московской коммунальной квартире, откуда в ночную пору увозили людей, о чем утром шепотом сообщала отцу мать, в институте, когда то и дело исчезали профессора и студенты, а на комсомольских собраниях прорабатывали и исключали детей «врагов народа», и я сам чудом избежал ареста, наконец, в армии, я все время задавал себе вопрос: куда же девались эти люди, так таинственно уходившие в небытие в ночную пору? В их виновность я никогда не верил и с детских лет прекрасно понимал ложь обвинений и неестественность так называемых признаний на публичных процессах, но не мог объяснить себе причину творившейся вокруг сатанинской жестокости.
Я знал одну даму, весьма нацеленную на карьеру, в доме у которой на всех семейных торжествах первый бокал поднимали за здоровье Сталина. Выходя с партийного собрания в весьма почтенном учреждении, на котором сотрудникам зачитали доклад Хрущева на XX съезде партии, она воскликнула: «Какой ужас!» — «А ты что, раньше обо всем этом не знала?» — с раздражением ответила ей коллега. «Что-о-о, — заорала дама на весь служебный коридор, — а ты знала и молчала?» Она, как и всегда, оказалась права и чиста, а все вокруг виноваты. Разумеется, все она, как и многие другие, прекрасно знала, но страх, карьерные соображения, надежда, что их минует чаша сия, заставляли людей надевать на глаза черные очки и затыкать уши ватой, дабы отогнать крамольные мысли, которые, если иметь мужество додумать их до конца, должны были подвигнуть порядочного человека на столь опасное противодействие злу.
Так вот, куда же деваются утки? Сидя на Лубянке и в знаменитой, недоброй памяти Лефортовской тюрьме, путешествуя в столыпинском вагоне и видя вокруг себя в лагере тысячи людей, я, наконец, узнавал судьбу своих предшественников, сам двинувшись по Дантову кругу.
Судьба оказалась ко мне милостива. Я не попал ни в Колымские лагеря, ни на страшную 501-ю стройку железной дороги, которая по чьему-то нелепому замыслу должна была пересечь всю северную часть Сибири. Лагерь, в котором я оказался, был рядовой, в нем отбывали срок от 20 до 30 тысяч человек. По нормам ГУЛага он был столь незначителен, что в предназначенном для служебного пользования справочнике вообще не значился. Он входил в систему ГУЛПа (подразделение ГУЛага — Главное управление лагерей лесной промышленности). На многочисленных отдельных лагерных пунктах — ОЛПах — заключенные валили лес, который подвозили с лесоповальных ОЛПов на лесопильный завод, выпускавший пиломатериалы для авиационной, автомобильной, вагоностроительной и других отраслей промышленности, а также шахтовку для угольных разработок, шпалы, мебель и вообще все, что делается из дерева. На этом лесопильном заводе я провел большую часть срока своего заключения. Но у нашего лагеря была одна особенность — в него свозили из других лагерей и колоний тех, кто совершил какое-либо внутрилагерное преступление (убийство, грабеж, поджог и т. п.). Поэтому через расположенную на нашем ОЛПе пересылку проходил специфический человеческий материал.