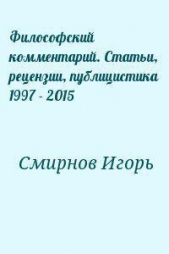Мы шагаем под конвоем

Мы шагаем под конвоем читать книгу онлайн
И.М.Фильштинский - известный ученый-востоковед, автор многих трудов по арабской истории и литературе. На склоне лет он рассказывает о том, что пережито им самим в годы репрессий, когда по доносу он был отправлен в сталинские лагеря. От большинства опубликованных ранее лагерных воспоминаний "Мы шагаем под конвоем" отличаются отсутствием разоблачительного пафоса. Он рисует лагерь как царство трагического абсурда, в котором, однако, есть место любви и состраданию. Фильштинский повествует не столько о себе, сколько о людях, с которыми судьба сталкивала молодого ученого в ГУЛАГе. Каждая глава книги в сущности - это целый роман, сжатый до объема новеллы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Призвали в армию, а как отслужил — приехал в Москву, хотел поступить в художественное училище. Пришел, показал рисунки. Какой-то хмырь в очках посмотрел и говорит: «Ты же не реалист», — и опять их вечное: «Не похоже». А я ведь точно знаю, что именно у меня все очень похоже. Но по-настоящему я это только потом понял. А другой еще говорит: «Это ты под влиянием Модильяни». А я об этом художнике в то время и слыхом не слыхал. Словом, меня даже до экзамена не допустили. Походил я в Москве по музеям и выставкам. Ну и рисовал, конечно. А тут еще женился, и ребенок народился. А у меня, да и у жены ни прописки московской нет, ни жилья. Так мы и скитались, снимали комнату, а у одной бабки просто угол. На окраине города это было. Я ей и дрова колол, и воду таскал. А зарабатывал тем, что афишки для кино рисовал. Там один запойный пьяница числился, а я, так сказать, был при нем вроде субарендатора. Как-то привел ко мне дружок, так же, как и я, вольный художник, знатока. Посмотрел тот мои картины, поохал и отвалил мне сразу за все тысячу рублей. По тем временам хватило их нам, конечно, ненадолго. Но жить надо, деньги во как были нужны. А у меня руки хорошие, дружки говорили — золотые. Тут попалась мне книжечка про заграничных преступников. Детектив. Я вообще-то эту литературу особо не жалую. Дома обычно жена читала. А тут как-то не спалось, я и схватил. И надоумила меня эта книжка сделать одно дельце. Только нужен был для этого чистый паспорт.
Сергей на минуту замолчал, задумался, что-то припоминая.
— Съездила жена к себе на родину, в Малоярославец. Пришла в милицию, дескать, потеряла паспорт. Ну, конечно, сунула кому надо. Помурыжили малость и выдали новый. Я взял старый, смыл все, что там про нее было записано. Для этого пришлось с химией повозиться, новой специальностью овладел. Вписал туда чужие имя и фамилию, и все другое. Приехал в Куйбышев. По поддельному паспорту положили в разных сберкассах по сто рублей на аккредитив. Тут я попрактиковался немного и овладел ремеслом, у меня это хорошо получается. Были аккредитивы по сто рублей, стали по тысяче. Все там было честь по чести, даже водяные знаки в порядке — не придерешься. Сели мы в самолет — ив Тбилиси. Проехали по сберкассам, сняли по тысяче и в Крым. Там и засели. Я рисую, жена с сыном пляжатся. Очень мне эта вольная жизнь показалась. Я до денег особо не жаден, однако свободу ценю. Жили скромно, но рано или поздно, сам знаешь, всякие деньги приходят к концу. Тут мы в новый рейд, на этот раз на Урал и в Сибирь. А потом снова в Крым. Так лет шесть жили. Там бы я и по сей день горя не знал. Жена мне друг, меня понимает и сочувствует. И всегда говорила: «Ты, Серега, главное, рисуй, а о жизни меньше думай, как-нибудь проживем».
Но заскучал я в Крыму без выставок и музеев. Ведь все это только в Москве и в Ленинграде. Стал я теребить жену — переедем да переедем. Ладно, перебрались в Москву, снова поселились у бабки. А тут жена забеременела. Присмотрел я одну старушку, договорился за полсотни в месяц, чтобы приходила жене помогать, стирать там, готовить. А ты наш народ знаешь. Все друг за дружкой следят и все завидуют. Сидят кумушки у ворот и обсуждают: «Нигде не работает, а живет хорошо и еще прислугу заимел!» Кто-то стукнул, за мной и пришли. А потом и жену взяли. Предъявили мне мои аккредитивы, ну, может быть, одну десятую, остальное не раскопали. Сам знаешь, как они работают. Экспертиза была, прижали, и я раскололся. А жена в несознайку, она за меня горой. Дали нам очную ставку. А я так подумал: жена ждет ребенка, и ее скоро, как мамку, и так могут отпустить, а мне все равно сидеть. Зачем же ее зря мучить? Я ей знак дал, дескать, говори. Ее, и верно, вскорости отпустили, а мне вот двадцать лет отвалили по указу. Да я и здесь не пропаду, работаю слесарем в ремонтно-механических мастерских. Для вольных делаю то одно, то другое — копейка всегда есть, и жратья принесут. Одно лишь плохо, рисовать нет условий.
Сергей умолк.
Я подумал: а что, если бы приемная комиссия художественного училища не мерила бы столь жестко искусство начинающих художников-абитуриентов соцреалистическим аршином и проявила бы большую широту вкусов и отзывчивость? Может быть, не сидел бы сейчас передо мной на нарах мошенник, а на выставках висели бы картины оригинального художника?
Мы пьем чай в притихшем бараке. Порой кто-то вскрикивает и сквозь сон что-то бормочет. Заключенные спят неспокойно, по ночам часто кричат — все то, что днем таится в подсознании, вылезает наружу. Душно. Мы оба страдаем от духоты. Поэтому у меня с Сергеем тайный уговор: всякий раз ночью, когда один из нас выходит из барака, мы, возвращаясь, оставляем дверь настежь открытой. Вот и сейчас я выхожу проветриться. На улице сорок пять градусов. Клубы холодного воздуха пробиваются сквозь спертый воздух, и на несколько минут становится легче дышать. Потом кто-либо из спящих у двери просыпается от холода, встает, ругаясь, и закрывает дверь. За ночь мы повторяем эту операцию несколько раз.
Игрок
Первая лагерная зима 1949–1950 годов была для меня особенно тяжелой. Я не имел профессии, которая могла бы в лагере пригодиться, и меня гоняли по разным общим работам с места на место «пилить, носить, тащить, толкать» и т. д., словом, куда только не придет в голову нарядчику. Вообще, в лагере были три-четыре специальности, которые могли избавить заключенного от порой непосильных работ и создать ему не только более или менее приемлемые условия существования, но даже в какой-то мере стать источником обогащения. Я, конечно, оставляю в стороне такую, к сожалению, не слишком дефицитную «профессию», как служба у «кума», которая могла обеспечить привольное житье даже при полном отсутствии какой-либо специальности. Для осведомителей предназначались должности дневальных в бараках, пожарников, кладовщиков и т. п., на которых можно было кантоваться. Впрочем, эта служба была не только не приемлема для уважающего себя человека по моральным соображениям, но и не всегда безопасна. Человек, скомпрометировавший себя доносительством или даже подчас несправедливо заподозренный в этом, рисковал однажды стать жертвой упавшего бревна на погрузке или другого «несчастного случая». Перспективными были профессии врача, в крайнем случае фельдшера, бухгалтера-экономиста, инженера, иногда — парикмахера. Мне, филологу-востоковеду, в лагере, естественно, ничего не светило.
В середине зимы бригадир лесоцеха на лесопильном заводе определил мне работать наколыциком на сортировочном бассейне. «Это самая легкая работа», — сказал он. Однако меня сразу же насторожило то, что никто из старых зека на эту работу особенно не рвался.
Близ лесопильного цеха был вырыт котлован в форме прямоугольника, примерно 150 метров в длину и 30 метров в ширину, над которым были навешены деревянные мостики. Образовавшийся бассейн был заполнен водой, причем в зимнее время сюда подавали горячую воду с электростанции. Прибывавшие с лесопильных лагпунктов железнодорожные вагоны с пиловочником около бассейна разгружали, а бревна сбрасывали в воду. В воде же их и сортировали, промерзшие бревна отмокали и, попав на пилораму, не так сильно тупили пилы.
На сортировочном бассейне работали четыре человека, вооруженные длинными баграми. Один из бригады подгонял плоты с бревнами к сортировщику, другой, сортировщик, разворачивал их тонким концом в направлении бревнотаски, а комлем в обратном направлении и в соответствии с выпиливаемым ассортиментом, строго по диаметру, досылал их двум наколыцикам, которые «накалывали» их на непрерывно движущиеся бревнотаски, доставляющие бревна в цех на пилорамы.
Поскольку в ту зиму в Архангельской области стояли устойчивые морозы в сорок-сорок пять градусов, над бассейном все время висел густой пар. Было одновременно и очень сыро и холодно. Наколыцику приходилось стоять почти неподвижно, как часовому, у бревнотаски и одиннадцать часов подряд, орудуя багром и двигая лишь руками, нанизывать одно подплывающее бревно за другим на движущуюся цепь. Работа была не очень тяжелая, однако через тридцать-сорок минут все тело пронизывала и обволакивала сырость, оставляя изморозь на бороде, усах и ресницах и проникая до самых костей сквозь жалкую лагерную одежонку. Отойти для того, чтобы размяться и согреться, разумеется, было невозможно.