Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
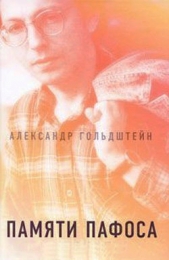
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Некоторые из этих идей были сформулированы с трезвой, без скидок на количество выпитого, отчетливостью. Иные остались абрисом, очерком и беглым наброском, начертанным, по-хлебниковски говоря, не мелом, а любовью. Третьи, туманно клубившиеся, прояснились изрядно спустя, в мемуарных итогах, насыщенных, как и все мемуары, сведением счетов, борьбою за первенство в святцах истории и лицемерно-почтительным погребением мертвецов. Четвертым уготован еще более странный удел — их не вычленить из биографий тех, кто их когда-то отстаивал, они впечатаны в судьбы, давно ушедшие в сторону и отрезанные от минувшего, рассеяны в воздухе, овевавшем фигуры и положения. Интерпретация этих мифов требует восстановления испарившихся жестов и озарений, ибо сама мифология здесь — детище оргиастических ритуалов, осязаемая реальность которых постижима лишь в минуты их отправления и очень превратно, осколочно воскрешается памятью.
У Вулфа непреходящие перед эпохой заслуги, он выполнил все, что могло быть вменено живописателю, и кабы небесная хроника, а равно небесный музей искали по-монастырски прилежного летописца и по-британски дотошного, с палеонтологической репутацией, археолога, лучшей кандидатуры они б не нашли. Не главный участник событий, скорее заинтересованный их наблюдатель с эгоистической литературною целью за пазухой, он склеил свидетельства, разгладил апокрифы и сказания, поместил под стекло трофеи, сдул пыль с черепков, по разрозненным хрящикам собрал скрупулезный скелет бушевавшего поколения и уже о ту пору, в апогее великого зрелища, созерцал представление как бы из будущего, из истории, которой дыхание открылось ему в колобродящей современности. Будь Вулф только стенографом калифорнийского сумасшествия, ему и тогда причиталась бы жаркая благодарность потомков, ее волчий, лакомый кус. Он сделал не в пример большее — до конца, до логического и экзистенциального завершения додумал Шестидесятые, рассекретив в них то, что там подлинно содержалось и о чем время лишь смутно догадывалось. Упорядочил зыбкую сферу идей. Таксономически разграфил мифологию. Сообщил внятность фантазмам и маниям, сумев уберечь непосредственность ворожбы, волхования. Вывел интуицию к прозрачной воде, и она, как античный убийца в ручье смывал с себя скверну пролитой крови, отмылась от наносного и грязного, от греха непроцеженных восприятий и эротизированных «схватываний». Умудрился проникнуться мало что чудом, но и такой мыслью о нем, которой это чудо о себе сроду не знало, хоть владело ею подкожно и органически.
Вулф, и сказать о том нужно с определенностью, вдохнул в Шестидесятые самосознание, психею-концепт, а стало быть, одушевил их и даже, да не покажется это преувеличением, — их сотворил. Те легендарные годы есть такое же произведение его разума, пера и ответственности, как пелопоннесские войны — создание Фукидида, а походы Юлиана — плод памятливой музы и грусти Аммиана Марцеллина, воздвигшего элегическое надгробие своему обреченно любимому императору: он никогда не называл и не назвал бы его Отступником. Не в том дело, что они зарисовали события, в которых участвовали, и не сохранись этих пространных картин, многое бы померкло, не уцелели б подробности, но в том, что Событий как таковых, в их философской, художественной и оттого исторической сущности, без одушевляющих описаний попросту б не было. Максимум пришлось рассуждать бы об эмпирических фактах, а что о них рассуждать. Еще укрупним масштаб сравнения: исторически сложившееся христианство создано не Иисусом, а Павлом, это он, не входивший в первоначальный апостольский круг, во второй главе Послания к филиппийцам объяснил, чем был кенозис Учителя — его, в рабском образе, жертвенное самоумаление, к малым сим снисхождение.
«Кислотный тест» наделил автора всем, чего алчет сочинитель его темперамента, и полушутейный призыв критика высылать Вулфу денежки и другие вещицы, потому что парень он замечательный, сбылся с чистотой национальной мечты. Твердое место в шелковых рядах мандаринов американской литературы, место, никем не оспариваемое, подкреплялось, чтоб не гневить домашних богов, регулярною данью в виде новых романов; их прокламируемый документальный испод, ветшая, с годами истлел, до последней нитки уступив себя лицевой красоте беллетристики. После изрядно отполыхавших «Костров тщеславия» Вулф стал наипаче священным чудовищем, одним из монстров словесности, кого дозволяется лицезреть на экране или в мятном свечении журнального глянца, но завидовать им — глупей не придумаешь. Научись прежде жить, как живут чемпионы. Тридцать томов, шесть жен (на одну покушался с ножом, чуть-чуть недорезал), бокс, политика, наркотики, алкоголь, стычки с полицией, любовь к партизанской войне, масса иных удовольствий, сущее бешенство типично американских, со сгоревшей землей под ногами, амбиций, варварские (в стиле пурпурных азиатских царей) гиперболы собственной личности, потрясающий, на восьмом-то десятке, к этой собственной личности интерес — мы о Нормане Мейлере, но у них общая кровь, и Вулфу не понадобилось ни сдавать ее на анализ, ни прилюдно отворять себе жилы. Потом он на 11 лет замолчал в окружении крепнущих слухов и наконец разродился 742-страничным романическим фолиантом («А Man in Full»), ставшим поводом для перебранки в закрытой школе помазанников.
Инициатором свары выступил упомянутый Мейлер, вскоре его поддержал Джон Апдайк. Состав преступления: притязая быть классиком, вожаком волчьей стаи в чащобах словесности, Вулф измечтавшейся публике подсунул бестселлер, недостойное развлечение, откуда все качества — ходкий сюжет, облегченный стилек, крючки и наживки для извлечения денег. Прорва печатных листов, не согретых ни чувством, ни постижением, матерый бихевиоризм, изучивший, где нажимать, чтоб на выходе тупо загоготали и глупейше обмочились слезами. Заодно охаяли предыдущие книги, в там числе «Костры» с их «ледяной, бессердечной сатирой» (нам так не показалось, но на ринге тяжеловесы, и мелюзга молчит в тряпочку). Перенесший операцию на сердце, а ранее чуть не убитый затяжным нервным срывом, ибо роман писался мучительно и, дойдя до развилки, надолго иссяк, Вулф ответил коллегам наотмашь. Это старичье, сказал он о Мейлере и Апдайке (который его годом младше), это старичье, сладко повторил он для другого журнала и телеканала, эти дряхлые львы без когтей и зубов просто не могут смириться, что терпят провал за провалом, чужое преуспеяние творчества для них нестерпимо. Тут он задел голый, навыпуск, нерв. Недавний сборник короткой апдайковской прозы не попал ни в один из коммерческих перечней хвалы и молвы, и этот афронт вынудил автора, не обнаружившего своих опусов в аэропортовских, duty free, магазинах, горчайше прошелестеть, будто в литературе он невидимка, «пропащий человек», как на исходе дней, ослабнув от долгового острога и белой горячки, печатно титуловал себя Аполлон Григорьев. Вулф, удостоенный миллионного стартового тиража, с Апдайком согласился охотно.
Все это мило, и ругань заслуживает добрых слов, но психологическая подоплека конфликта мало понятна. На первый взгляд, и гадать нечего — жаба заела. Однако ж не складывается, слишком банально для зубров, жабы их не едят. Зависть, озлобленность несколькими тощими годами — да, возможно, но исключительно фоном, сопровождением, маскирующим корень. Посему обнародуем собственноручную версию: внезапная вспышка вражды есть, по нашему мнению, не тривиальная грызня ветеранов и конкурентов, а междоусобица американских шестидесятников, специальный жанр поведения с занавешенной от посторонних семантикой. И если совестливый протестант Апдайк, из религиозных соображений воздерживающийся от работы по воскресеньям, голосовых связок особо не напрягает и маячит на подпевке в тускловатом миноре кулис, то Мейлер, организатор скандала, строго блюдет свою оглушительно сольную партию.
Признания он добился совсем молодым, через три года после Второй мировой, ворвавшись в искусство и общественный стиль на крыльях прекрасной армейской трагедии «Нагие и мертвые», и все же родина его истинной славы — Шестидесятые, когда он настолько не ведал усталости, что это граничило с чародейством. То было время Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Вьетнама, Мохаммеда Али, высадки на Луне, молодежного неподчинения, нью-журнализма, литературного взлета, время его, Мейлера, лучших замыслов, инспираций, героев, и он находился в центре любой, где бы ни возникала она, разрывной и критической силы, и что бы ни происходило потом, твердо знал — Шестидесятые не превзойдены. Возвыситься над ними могла бы культура, во всех отношениях более грандиозная, нежели та, что погибла в борьбе с гравитацией; этого не произойдет, ибо культура уже не пытается победить тяготение. Литература тоже не ставит перед собой восхитительно невыполнимых задач. Ее нет, покувыркавшись, она сомлела, как в жаркой перине позорная тварь, выхлопотавшая ренту за немолодую разборчивость в связях. Похрапывает вместе с писателями, салонными баловнями стилистических головоломок. Литература в прошлом, истлели ее безумные дни. Теперешняя не в счет, это его стойкое убеждение. Книги, выношенные в сухом чреве, рождаются мертвыми. Прозрения и лучевые пульсации — удел сочинений, возросших в надежде изменить жизнь людей, а не добиться от них денег и лести. Книги этого типа написаны в Шестидесятые, тогда же был и размах честолюбия («Неприятная правда состоит в том, что я живу, словно в тюремной камере, пленником представления о себе как о человеке, который не удовлетворится ничем меньшим как совершением революции в сознании нашего времени. Ошибаюсь я или нет, но я не могу разубедить себя, что именно моя настоящая и будущая работа перевесит работу любого современного американского романиста» — Норман Мейлер, «Самореклама»). Необходимо напомнить о времени, литературе и людях, доказав, что подобных им больше не было, вскрыв все ничтожество нынешних комфортабельных сумерек. Для этого, разумеется, недостаточно аптекарски взвешенных слов, аналитических выкладок, мемориальных облизываний, старческих возлияний у гроба. Нужен бешеный окрик, нужны в старых традициях драка, хук и нокаут, когда, отсчитавши до десяти, бросают с носилок на лазаретную койку и оттуда в могилу. Чужих так не бьют. Так бьют своих, чтоб чужие боялись. Но и своих уродуют с выбором, каждый первый на эту роль не годится. Надобен равный и хищный, одного возраста и напора судьбы, племенной рекордист, не меньше тебя самого отвечающий за баснословное прошлое, такой же, как ты, производитель Шестидесятых, и кто, если не Вулф, заслужил быть размазанным по канатам, а затем пасть вниз глазами, с багровыми полосами на спине. Во имя чего этот бой и удар? Это ритуальная жертва. Только жертва способна поведать о несгинувшем поколении, о высоте его помыслов, о том, что оно по-прежнему беспощадно к своим и в прекрасной безжалостности к другу и близнецу видит закон сохранения идеалов и дружбы; сплоченное пролитой кровью, это единственно стоящее поколение отвергает все, кроме правды, но и правдою факта готово оно поступиться ради превосходящей ее сверхистины примера и жертвы. Неважно, выдавил Вулф гадкий бестселлер или отменную прозу. Его книга лишь повод к тому, что давно уж назрело, к обрядовому умерщвленью сородича, который, взойдя на костер, осветит дряблый воздух растоптанных ценностей и еще раз — в последний, может быть, раз — пронзит мир презрением, вызовом и свободой. Презрительной, вызывающей и свободной была вся шестидесятническая литература, так пусть же узнают отменившие ее самозванцы, на каких весах надлежит взвешивать слово и жизнь.


























