Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
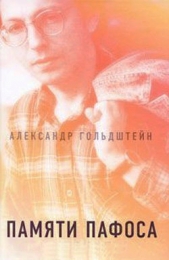
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Коллегам — писателям и журналистам — от этой чудовищной наглости сделалось дурно; эмоция здоровая, правильная, осуждать их нельзя. Популярные люди черным по белому напечатали в популярных газетах, что рукопись Макин украл, что он нанял (на какие, полюбопытствуем, деньги?) талантливого французского самородка, что он — нелегальная сволочь и иммигрант, жульнически выигравший в лотерею, что его место в сплоченных рядах драящих сортиры иностранных рабочих, что он должен пролить три мешка крови, прежде чем разживется священным французским гражданством, однако ж, и после того паспорта ему не видать — изощрялся, заметим, не лепеновский сельский актив, но парижский, обычно вполне респектабельно пишущий корпус. Гражданство Андрею Макину по прошествии многих лет и отказов было даровано личным распоряжением Жака Ширака. Следует признать, что известная своей леденящей безжалостностью секта браминов из премиального капища оказалась символом великодушия сравнительно с демократическим государством и его либеральною прессой.
Меджнун французской литературы, восславивший ее больше, чем кто-либо из современников, Макин рассуждает в своем любимом кафе «Le Metro» о ее печальном закате. Словесность эта погублена царящей в стране мелкобуржуазною суетливостью («небоскреб превратился в квартиру»), провоцирующей писателей драться за вакансию телеведущего. Меж тем литератор должен единственно думать о Стиле. А Стиль — это не красивые фразы, но «всепроникающая гармония сущего, которая одна становится достоянием вечности, если явит ее поэт».
ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
Исайя Берлин, английский философ русско-еврейского происхождения, не дожил нескольких месяцев до своих 90 и не оставил автобиографии, ожидавшейся поклонниками его опрятной и прибранной музы. Ему было о чем рассказать — почти столетие за холмом, и он, выбравший сферу письма, никогда не болел чрезмерной, губительной для писателя скромностью, но завет, впитанный смолоду, отложился в его сознании с геральдической чистотой. Оправе воспоминаний пристало замыкать опыт, наделенный античной, желательно римской, фабульной стройностью, когда последние слова мемуаров диктуются ратным, из германского леса, ранением, либо проистекают из ванны, наполненной кровью стоической отрешенности (побелевшие губы тем временем упражняются в максимах для благоговейных ушей восприемников этих речений), либо исходят из мировоззренья правителя, столь удалившегося от вздорности подданных, что на долю его выпадает лишь обращение к себе самому. Или это должна быть жизнь наподобие той, которую из подручного материала возвел любимый Берлином Лев Николаевич: погребенный на станции под телеграммами, панически вопрошающими о состоянии беглеца, он поистине выстрадал фразу о людях, чей незавидный удел куда более, нежели планида обласканного вниманьем изгнанника, заслуживает опеки, сочувствия и заботы. И пока старческий рот медленно выговаривал слова, а пальцы комкали угол казенного одеяла, новая порция соболезнований мелкими листьями пала во прах, и недочитанной укоризной раскрылись у изголовия «Карамазовы». Завистливый Страхов, злоумышляючи против очной встречи титанов, не позволил ей состояться в том единственном, как позднее обнаружилось, месте, где свиданию предуказано было сбыться, и даже накануне исхода, близ трех аршин русского упокоения не привелось доспорить, перечитать и, со всем соглашаясь, — опровергнуть беспокойного автора.
Граф Толстой многое преподал сэру Берлину. Прежде всего он показал ему пример долголетия. К сочинению философских трактатов в эпоху свальных кровосмешений доктрин и вавилонской толкучки методологий допускается каждый, кто наряду с избавлением от подростковых прыщей и сдачей докторско-фельдшерских минимумов обучается профессионально, без стетоскопа констатировать смерть метафизики. (Похоронных процессий, вопреки обещаниям, не было, как не заметили мы ни муаровых лент, ни посеребренного гроба, ни обескровленных, с томной бледностью, ирисов возле благоухающих мощей в бальзаме, и самый памятник все очевиднее предстает кенотафом, ложным надгробием. Потому что желательно нам, чтоб метафизика, сколько бы ни надругались над ней, с нами — осталась.) Но стяжание мафусаилова века, да так, чтобы ветхость днями не растворила в своей склеротической тьме достоинства познающего разума, — это поприще очень отдельных счастливцев, тайное знание, эзотеричнейшее из сокрытых искусств. Абсолютное первенство и бессрочный рекорд, конечно, за Эрнстом Юнгером, 103 года отбывшим в земных областях видимого и невидимого. Он тихо исчез, не закрыв за собой отворенную дверь, мягким пасмурным днем европейской зимы 1998-го, и канцлер Коль, предчувствуя убывание власти, пухлой рукой положил на орудийный лафет три темной сладостью трепещущие розы. Лишь посредством возвышенной интонации, мнится нам, надлежит выражать священный восторг, что охватывает душу от зрелища прощального соединения философии и мирского могущества.
Причиной непристойного достижения сам Юнгер считал холодный душ поутру (сколько воды утекло, Боже правый), а мы бы прибавили апостольскую преданность идеологии тотальных мобилизаций, пафос формовщика горящего воздуха, огненных куполов над лазоревыми и золотыми полями германской геополитики, сарказм оппозиционера, осознавшего, что его крайняя рецептура не для желудков взопревших плебеев, отсутствие самоиронии и пристрастие к шикарным, вроде бодлеровских, петлистым метафорам, под сенью коих он провел свою осень и которые зачаровывали его в зените экспансий. Взяв Париж под знаменами вермахта и дегустировав на закате шампанское из хрустального, натурально, бокала, Юнгер начертал в офицерской тетради, что столица французов, как бы подернутая жемчужно-опаловой дымкой и спеленутая суровостью немецкого духа, подобна цветку, не решившему, распуститься ль ему в приветствии поющим валькириям или увясть, не выдержав сминающей красоты юного варварства. Оба варианта, было отмечено строкою спустя, окликали из бездны сонм демонов и одинаково ужасали адепта милитаристской эстетики, разложенчески полагавшего, что призвание декаданса — источать тонкие яды и не быть втоптанным сапогами в дерьмо. Долголетие автора «Мраморных скал» и «Рабочего», хочется думать, неповторимо. Укрывшийся от чужих взглядов, он походил на пустыню, которая, по слову одного патетического французского лироэпика, не сообщается с бесконечностью, ибо уже выпила ее своим сухим ртом. Но и дележ второй философской позиции впечатляет — 98 годов отвела судьба Бертрану Расселу и Хансу Георгу Гадамеру. Берлиновские без малого девять десятилетий тоже указывают на качество мысли и обдуманную стилистику поведения.
У Толстого британский Исайя, помимо бодрого старчества, заимствовал совершенство жизнестроительной криволинейности, умение чередовать приступы литературной безудержности с периодами мечтательного затишья, побуждавшими вгрызаться в иную, не менее материальную почву. Художественное сочинительство графу казалось порою бесплодным, и тогда он занимался охотой, скупкой башкирских земель, обучением грамоте яснополянских детей, вегетарианством, переложеньем Евангелий, домашними распрями и массой других неотложных предметов. Берлин же в перерывах изящно служил на культурно-дипломатической ниве и, по отзывам многих, был обаятельнейшим собеседником, златоустом-шармером, владельцем ключей от настороженных душ и сердец. Здесь мы вплотную приблизились к еще одному важному уроку, усвоенному им у Толстого. Необязательно обременяться полынью дневниковых признаний (Лев Николаевич, впрочем, прилежно вел запись) в расчете на то, что потомки извлекут из-под спуда исповедальную горечь замет и, отмыв длани от любопытства и пыли, составят подробную биохронику подзащитного. Достаточно обзавестись конфидентом, и если выбор будет верным, собеседник сам сохранит твою речь и оградит от распыления облик, восстановив их в той нераздельности участи, в той ее цельной и целенаправленной прямоте, которая, из всех снадобий против забвения, единственно обладает способностью к сопротивлению пожирающему жерлу времен. У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, Толстой до скончания сроков заручился стенографической неотлучностью Маковецкого и Бирюкова, а непогрешимая интуиция Берлина даровала ему Михаила Игнатьева, британского литератора со стажем и репутацией.


























