Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
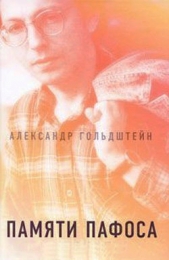
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О преступлении выше замечено с умыслом. Эти встречи порою несут гибель и яд. Тот же Вертер, дав знак, что в борьбе с унизительной жизнью помогает добровольная смерть, вытолкнул к ней легион европейских страдальцев, и, однако, им всем, безымянным или чуть задержавшимся в имени, вроде горемычного русского подростка Сушкова, вместе с отравой и револьвером было вручено утешение — осознанье себя поколением, первым потерянным поколением в европейской истории.
Поэтому надо сказать тверже, отчетливей: генерации созидаются книгами, клейким опытом совместного чтения. Его приворотным и сплачивающим испытанием, благодаря чему во чреве бессвязной, дезорганизованной арифметической массы зарождается племя сочувственников со своей верой, разувереньем, обрядом и обетованием быть узнанным в толпе одиноких — ты из наших, ободрись, печать принадлежности на твоем бледном челе и существованье твое не случайно.
Беззаветный роман, они оберегают друг друга — книга и поколение. Восприемники породившего их озарения (одного безумия люди) пестуют легендарность своего вызова в мир и ведут себя так, чтоб не распалось воспоминание об отеческом семени, материнской утробе и священнике у крестильной купели. Связанное памятью происхождения, запахом дома, где учитель, преломляя хлеб и разливая вино, наделял ими всех, кто сидел за столом, сообщество равных хранит память в сосуде своей коллективной души, и сколь бы наивными ни представали потом впечатления первоначала, их не забывает и от них не отказывается. Забвение — это пренебреженье уделом, оно выбрасывает в сиротство и бесприютность. Отказ означал бы, что молодость, а с нею и жизнь, выдалась зряшной, бесплодной. С этим согласиться нельзя, как не смирились строители днепрогэсов, магниток, прочих голодных вавилонских страшилищ, что все муки и отчужденья труда, весь оборвавший жилы надсад (но и радость была) нужно выбросить псу под хвост и, обнявшись со своим зачеркнутым прошлым, оплеванно околеть под сенью новых, в высшей степени человеколюбивых идей. Люди, как правило, поступают иначе, и каждое сформированное словесностью поколение свои книги, не отрекаясь, держит у сердца, в должный срок их вверяя потомству. Курт Кобейн, например, покуда его окончательно не всосала нирвана, на задворках заедал Сэлинджером пиво и виски, а он был не один, его подпирал гранжевый, на обдолбанных струнах, Сиэтл, вповалку, лет через тридцать переоткрывший ржаного ловца.
Бывает разная литературная слава, разный успех и различные типы стремлений к нему. Некоторые мечтают подчинить себе массу, бессословную демократию за вычетом, может быть, недоступной и потому презираемой касты интеллектуальных браминов. Притязанья других, или уж так оно выходит постфактум, ограничены меньшими числами, избирательным спросом — групповым, половым, политическим, умственно-цензовым. Третьи запазушно холят-лелеют постмодернистский ключ власти, а на том ключе две бороздки, для отпиранья элиты и тех, что попроще, поплоше. Если, по словам Валери, романтизм — это когда скверно пишут, то постмодернизм с его шизофренией двойного кодирования — это когда хотят нравиться всем и у каждого вынуть из кармана монету. Он по-настоящему эгалитарен, и вместо «Поэтики» Аристотеля, коей затерянная глава стала сюжетным подспорьем одного из знаменитейших посленовых романов, постмодернизм базируется на Всеобщей декларации прав потребителей.
Легко отзовутся другие, такие же малозначительные славы без чуда и подвига. Литературный успех по касательной задевает людей, литературное чудо производит их к жизни, и они вырастают, будто из засеявших почву драконьих зубов. Мещане говорят о Боге, верующие — с Богом, сказано Киркегором. Здесь, в фантазматической области слова, господствует та же непримиримость, несоизмеримость двух опытов. Собственник тонких, сравнительно скромных ресурсов, Джером Дэвид Сэлинджер вознесся до одного из последних в минувших декадах чудес, сделав реальностью братство скитальцев, орден взъерошенных отроков, мечтающих об охранном служении, о волшебном, во тьме дальнего поля, спасении слабых — из подобных им беспокойных защитников Провидением или облачным небом был когда-то составлен детский крестовый поход, пламенеющий цвет европейского подвига; они целыми певчими стаями умирали на рваных краях и на отмелях своей жертвы и дара, ужасаясь тому, что глаза не вобрали священного града, узурпатора их внутренних взоров. И потому сэлинджеровский уход столь неповторимо печален, хоть это не единственная в недавней словесности утрата такого калибра и рода. Из синхронных примеров назовем мексиканца Хуана Рульфо, предтечу латиноамериканских романических новшеств, на годы вперед освященных им в Иордане галлюцинозного натурализма — идущие за ним вошли в ту же реку. Затаился, примолк, укрытый почетом и сожалением, но все же не наблюдалось напряженного всматривания в замочную скважину этого континентального мифа, с течением лет ставшего справкой о первенстве, сухой патентной бумажкой. Многим впоследствии удавалось сочинять лучше Сэлинджера, и никто не превзошел его в демиургической миссии формовщика поколения. Была бездна волнений о беспризорной вакансии, был в 90-х мощный взлет Ирвина Уэлша, запечатлителя рейверских, до мистериального пафоса вздыбленных декадансов со сказовым монологом, отчетливо притязающим занять в своем времени место холден-колфилдской исповеди, и, однако, не вышло, недостало каких-то прикосновений, теплых дотрагиваний, одухотворяющей малости, словно звучания имени, которое, по мусульманским поверьям, надлежит прошептать на ушко младенцу, чтобы он чувствовал и дышал.
Путь Сэлинджера был им предуказан. Ретроанализ работы его, мышление задним умом от затворнического эндшпиля к гамбиту первых удач подтверждает, что обещаньям ухода были отданы почти все произведения автора. Молодой поэт («Сеймур. Знакомство») скверно создан для мира, и не в романтическом, испарившемся плане конфликта, но в куда менее разрешимом. Избраннику надлежит терпеливо выдерживать тяжесть своей гениальности, которая, будучи единственным его достоянием, выталкивает сперва из постылого круга забот, затем из призвания и спустя краткий срок — из жизни как таковой. Поэт наделен зрением, превосходящим верхний предел человеческих восприятий, их болевой максимум и порог; ради убережения этих проникающих состояний (он к ним приговорен) ему нужно совлечь с себя кожу, и когда обнажилось все тело, все мясо, зрение сфокусировалось чересчур резко и ясно, чтобы мозг справился с этой самоотдачей. Вундеркинд («Хэпворт, 16, 1924») и всевидящее дитя («Тедди») образуют тандем невинных чудовищ: заступившие за черту святости, они получили в награду прямой доступ к постижению сущего, и дар предсказания, взваленный на их малолетство судьбой, к ним стягивает безотлагательность смерти. Исчезновение, по собственной воле совершенный уход, таким образом, неизбежен — чем быстрей он произойдет, тем благотворней для человека и мира.
Насчитывается шесть толкований бегства Сэлинджера от людей — больше, нежели версий предательства Иуды в рассказе популярного автора и причин, заставивших похитителя-огненосца (еще одна притча) глубже и глубже вжиматься в скалу, превращаясь в горельеф нарастающего безразличия участников драмы: устали, забыв о гневе своем, олимпийские боги, сомкнулись Кавказские горы, сложил утомленные крылья орел. Каждая из интерпретаций отшельничества имеет основою подлинность факта и тщится выразить его спрятанный смысл, исходя из далеко не бесспорной посылки о том, что объяснение должно объяснять, а не усиливать, посредством своей зыбкости и произвола, непостижимость исходного шифра события.
Согласно версии первой, его внезапно настигла аграфия, в просторечии называемая творческим кризисом, он не мог больше работать над художественными вещами, и где другой, продолжая мелькать на подмостках, до скончания века б наладил конвейер газетно-журнальных колонок и проповедей, там он эту подлую участь отверг. По второму преданию, он опять-таки исписался, но измыслил ослепительный трюк, концептуальную, без преувеличения, акцию с бесшумным хлопаньем дверью и невидимым столпничеством: останься он в миру, на юру, к нему, молчащему, злополучному, обездоленному, непременно бы охладели, а хрестоматийная повесть горела б укором. Ныне он чист, как представший в загробном суде персонаж египетской Книги мертвых, безгрешность которого, следующая из его оправдательной речи и подтвержденная сорока двумя божествами, отождествляется с чистотою великого феникса в Гераклеополе. Дополнительную смысловую насыщенность придает жесту воспринятый в частном порядке, но близко к сердцу велемудрый завет выгнать поэтов из города (кажется, им разрешали взять с собою венок и налобную, дабы не отсохли мозги, шерстяную повязку), а также следование Джойсовой, эпиграфически предварившей «Портрет» заповеди изгнания, молчания и мастерства. Два первых пункта триады соблюдены Джеромом Дэвидом строго, об исполнении ж заключительного можно только гадать, ибо доказательства его письменной деятельности, если таковые наличествуют, огласке не подлежат. Впрочем, он, вероятно, разумеет иное, более зрелое мастерство. Третий апокриф извещает о метафизическом недовольстве действительностью, якобы Сэлинджеру претило участвовать в круговороте потакающих миропорядку слуг и господ (см. гегелевскую «Феноменологию духа»), и он попытался изъять из их обращения свое слово и тело. Истоком нью-хэмпширской пустыни, настаивает четвертая версия, должно считать исповедуемый им дзен-буддизм, культивирующий зоны немотных сосредоточений, уединенного или послушнического, под надзором наставника, овладения психической самостью, а также отказа от своего прежнего, известного имени, так что разорвавший с прошлым художник выступает эпонимом собственной беспрозванности. Пятая интерпретация такова: он оказался заложником искушения, знакомого каждому, кто долго ли, коротко изводил литературой бумагу, искуса древнего и неистребимого, погруженного в подлинность переживаний, открывающих в речи ее самое глубокое, сверхценное содержание — молчание, неизреченность, блаженство освобождения от графической и звучащей материи, от вещественных средств языка. Утопия искоренения материально закрепляемых знаков, чтобы добиться абсолютного, не зависящего от зрительных и слуховых условностей, смысла, чтобы проникнуть туда, где в полной тиши и невидимости отсутствует место для лжи и где удостаиваются полноты религиозного обретения. Обретения того, о чем нельзя говорить, что неподвластно никакому высказыванию. Вошедший сюда расстается навеки с письменным поприщем и не чувствует тяжести отречения, ибо взамен награждаем той цельностью, которая, аннигилируя былые желания, проступает на чистом листе — но не нужен и лист — иконописными образами всех беглецов своего слова. Шестая версия, будучи агностической пропедевтикой к бесплодности любых толкований, отрицает пять предыдущих и подводит итоги дискуссии. Уход (в этом отношении он близок к самоубийству) вообще рационально необъясним, он случается, потому что случается, у него нет ни осознанно выщепляемых причинных корней, ни следственных всходов, но одна неразложимо-тотальная, коль скоро исчезновение совершилось, правда его неизбежности. Уходящий и сам хочет понять, отчего он отважился на отчаянный шаг, решение о котором принималось будто в амнезии, в глухом забытьи, вне разума, вне инстанций контроля. И ему не дождаться ответа, лишь догадка мелькнет, что всем заведовала темная безвариантность, продиктовавшая телу покинуть свое обиталище или в нем навсегда затвориться. Второй том «Мертвых душ» был сожжен, ибо так было нужно, гибельным и торжественным голосом сообщал в «Авторской исповеди» Николай Васильевич Гоголь.


























