Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
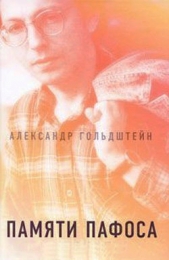
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первая реакция на лауденовские перформансы — недоумение организма, который инстинктивно соотносит их с собственным ужасом и протестует, не хочет уверовать. Чуть позже, когда оторопь уже за холмом, разум начинает опробовать версии, выкраивая их на любой выбор и вкус. Лауден одержим глубочайшим презрением к миру, и если это действительно так, то его жест, вонзаясь в историко-культурные святцы сопротивления, обретает надежное логово в невысохшем русле традиции, где подвергнутый бешеным пыткам античный философ выплевывает свой перекушенный зубами язык в округлую морду тирана. Художник не желает вести разговор под деспотическим небом наличных порядков. Он отказывается от празднословия змеящегося во рту способа речи, от половины слуховых (левое ухо) и тактильных (десять пальцев) возможностей ощупать реальность. Он становится полубесчувственным и потому особенно чутким, ведь его созерцания, воплощая утопию тела без органов, отныне диктуются лишь непогрешимостью боли. Демонстративно взятая им на себя немота заключает иначе недостижимое для него ораторское красноречие вызова, адресованного не чьему-то лицу, не потной провинциальной роже властителя, даже не сияющему властному лику универсальных начал, но рассеянной безличинности Власти как таковой, анонимной, всепроникающей и неистребимой. Он (еще одна версия) подражает Христу — Христу и Предтече искусства XX века, отрезавшему себе в публичном доме ухо, дабы тупо не удающиеся, по свидетельству Жоржа Батая, обряды освобождения преступили магическую черту закабалений, уничтожили неосуществимость и тварную косность. Повторяя легендарную акцию, растягивая ее до пределов отпущенной ему жизни и тем самым превращая единичность жеста в обычай, он, как истинный верующий, не может насытиться ранами и без устали наделяет себя эмблемами новых мучений, геральдикой приобщенности к образцу и праобразу. В результате кристаллизуется необычная ритуальная практика самокалечений — ее безоглядность питается все новыми усекновеньями плоти.
Согласно третьей трактовке, он сцеживает эти мотивы в традиционную философию боди-арта, о которой речь впереди, покамест довольно того, что Лауден позднее звено гиперболических испытаний телесности, воскрешенных искусством столетия. Здесь за несколько десятилетий реализовано, кажется, все: наносили себе шрамы, простреливали ладони из револьвера, измывались над гениталиями, медитировали в обнимку с удавом, отнюдь не обученным хорошим манерам, почти без еды и питья шли навстречу друг другу вдоль Великой китайской стены и обессиленно, в предзакатной стадии истощения, завершали свой начатый с первого шага путь в тысячу ли. Лауден на этой оголтелой территории далеко не единственный, а его бросающееся в глаза выпадение из рода и правила (ниже скажу о более веских расхожденьях и сходствах) — в принципиальном антиэкстатическом педантизме, в каком-то бухгалтерском, на пике благополучной отчетности, бесстрастии жанра, чудовищном и невинном, будто не сознающем содеянного. Его стихи абсолютно невозмутимы, их могла бы написать каменная стена, с восхищением сказал один русский поэт о другом. Брюс обитает в близком регистре внечеловеческой неподотчетности, репродуцируя свою невозмутимость с упорством, с каким ветшающая стена могла бы ронять из себя камень за камнем, любопытствуя, сколь долго ей удастся еще продержаться. Все эти домыслы, а приведена их малая часть, размножались в художественной среде до тех пор, покуда ячеистая необъятность Великой сети не принесла, с интервалом в три месяца, два лауденовских отчета, живописавших причины кошмарных деяний.
Первый документ с нарочитою стилистической заунывностью излагал помрачение визуальных искусств, а равно идею того, что умирание оных — для совершенства правдивости и во имя буквального соблюденья Паскаля, обещавшего поверить только такому свидетелю, который даст себя зарезать, — должно быть представлено неспешно загнивающим телом, самоумаленным обрубком, что в противовес беккетовскому говорливому прототипу избавлен и от напасти изустного растекания. Прочитав этот текст, я исполнился жалости к Лаудену. Чтобы составить столь тривиальный, унизанный дежурным набором цитации коллаж, необязательно так зверски над собой надругаться. Некоторую свежесть внесла неожиданная ссылка на Александра Кожева — он был первым (как сообщил мне по телефону мой друг Вадим Россман, философ; в момент разговора и, должно быть, уже навсегда нас разделяла чертова пропасть морей и по крайней мере один океан), кто диагностировал смерть человека и отнесся к ней с брезгливым спокойствием, отказавшись стенать на поминках. Затем невод выудил вторую декларацию членовредителя; в ней, точно мир с исступленным вниманием следил за всеми изгибами мысли артиста, начисто и на этот раз в горячих тонах отрицалось содержание первой, а идейным посылом Брюсовых акций была названа прихоть.
По словам Лаудена, к исходу столетия художник, в силу многих причин, до сих пор требующих внятного объяснения, лишился всего, что со времен романтизма полагалось невычитаемым достоянием его ремесла, — судьбы, призвания, идеологии, общества и, разумеется, искусства. Исчезли былые структуры и скрепы, области честолюбия и престижа, испарился субъект как носитель намерения, большой стратегической параболы творчества. В осадке лишь материальная иллюзия тела, плывущего в мерцающую иероглифичность, и прихоть, толкуемая в качестве безопорной и безосновательной выходки. Эта прихоть нейтральна, пуста, она неинтересна в том числе исполнителю (у него, художника без искусства, вообще нет никаких интересов), отрешенному даже от собственного своеволия, от своей пережиточной самости. Уничтожал себя Лауден потому, что ему этого якобы захотелось, но хотение было выпотрошенным, нулевым, в нем искоренилось желание. Только бесцельная мания, от которой он в любую минуту готов отказаться, и отчего бы ее не продолжить, если пустотные чувства неразличимы? Так, пишет Лауден, могло бы хотеть чучело крокодила или мраморная, с ренессансных фонтанов, рептилия. Он не знает и уже не намерен узнать, что привело его к скальпелю. В отсутствие желаний не может быть ни исследования, ни понимания, ни обращенности к самопознанию. Это и есть хирургически голая прихоть, прощальное достоянье художника.
Разрыв с боди-артом продемонстрирован здесь в полном объеме. На фоне более крупных событий человечество, скорее всего, не заметит разверзшейся глубины несогласий артиста с родительской идеологией, но я бы не оставил эту впадину без внимания. Дело в том, что классическое телесное творчество, в европейском и венском изводе своем, а именно с ним конфликтует Брюс Лауден, было последним западным искусством, связавшимся с идеологией искупительной жертвы, другими словами, оно было последней радикально-христианской (то самое подражание Христу) практикой жизнесмертия. Возникший в начале шестидесятых Венский театр оргийно-мистериального действия уповал на то, что зрители, посетившие его представления (трупы животных, настоящие шрамы артистов, брутальная атака на психику), выдержат шок страдальческого преображения, обзаведутся опытом нисхождения в темноту и, заполучив свою смерть, эту, по слову Игоря Терентьева, «единственную новость, которая не может быть рассказана очевидцем», воскреснут для катарсически освеженного бытия. На излете того же десятилетия главный этих перформансов испытатель, оскопившись, самоубился. Акция протеста, ибо налицо был протест, порывала с двурушнической политикой соратников, как выяснилось, боявшихся пустынных обителей Фулы, где не затягивались раны и не сворачивалась добровольно пролитая кровь. Сподвижники отработали приемы на тушах со скотобойни, залечили неосмотрительно нанесенные ссадины и, устроившись с минимальным ущербом для организмов, их пронесли сквозь года. Революционеру и экстремисту трудно смириться, что даже родственные души собираются жить, эта жалкая потребность не кажется ему обязательной. Отвращение к половинчатому окружению не являлось, однако, центральною темой самоубийцы, искавшего жертвенной роли Спасителя, дабы, во-первых, взять на себя грехи обремененных и слабых, не способных решиться на предельность мечты о сжигающем все барьеры искусстве, а во-вторых, оправдать падшее состояние этих искусств. В ту эпоху они еще не угасли, но сквозь роскошь мозаик и эротических фресок все отчетливей проступали на стенах дворцов симпатические письмена грядущего изнурения и позора, так что требовалась обрядовая жертва во искупление. Устойчивый, между прочим, мотив контркультурного времени; примерно тогда же Doors сняли маленький фильм (язык не поворачивается назвать его уродливым словом «клип»), в котором Джим Моррисон, расстрелянный и распятый Неизвестный солдат, он же калифорнийский Адонис и Гиацинт, окропляет кровью цветы, и они распускаются — war is over, all is over.


























