Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
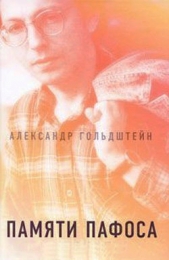
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет ничего прочнее, могущественней, нежели якобы случайное согласие общественного чувства. Ведь его фундаментом является Реальность. Таким образом, исходная природа Великого Поэта — не ценностная, но онтологическая. Великим Поэтом (он всегда один в свою эпоху, тут не бывает конкуренции) становится не тот, кто пишет самые прекрасные стихи, а тот, кто идеально заключает в своем теле власть, водительство, магию. Ведь и в Вожди приходят так же: решают не ораторские марафоны, не золотые орлы полководца, не мишурный блеск теоретика.
Бродский единственный в своем поэтическом времени сполна обладал властью и магией; они беспроволочно шли чрез океан. Он мог не опасаться, что какой-нибудь сладконапевный ересиарх, создав на редкость обольстительную теологию, с корнем вырвет его из пространства священного ужаса. Фрэзеровские циклические законы в данном случае не срабатывали. Царь и колдун не слабел с годами, ибо сфера его колдовства — не собственно слово, с исходом лет обмелевшее, но нечто большее, для чего я не могу подобрать названия.
ДОЛЖНО БЫТЬ, ГЕНИЙ…
Станислав Игнаций Виткевич. Безумный Локомотив (Пьеса без «морали» в двух действиях с эпилогом). Из книги «Наркотики» — «Иностранная литература», 1995, № 11.
Станислав Игнаций Виткевич (1885–1939), при жизни гулявший деклассированным эксцентричным смутьяном, которого культурный человек обегал за версту, дабы ненароком не вымараться в свальном грехе его дарований (словесность, живопись, философия, хэппенинг и другие кровосмесительные приключения жанров), потустороннюю свою участь, словно наскучив земными кощунствами, срежиссировал на удивление благолепно: стал классиком польской литературы. Которая по сей день не способна укрыться от его обложного влияния — как он пролился в начале 60-х золотым разрешенным дождем над несгиневшей Данаей шляхетской речи, так она и поехала, в знак «Солидарности» с весною народов, плодоносить абсурдным гротеском, последствия коего необратимы, ибо Зевесово семя не возвращается вспять. Только Витольд Гомбрович может сравниться с Виткевичем силой посмертных своих гипнотических пассов: одного безумия люди, как говаривал, временно отряхнув с себя бледный огонь эпилепсии, старший славянский собрат и пророк, ихнюю нацию весьма не любивший.
Оба великих поляка, повстречавшиеся, кажется, лишь на том берегу, заочно совпали друг с другом накануне Второй мировой, в одночасье исчезнув из светлого поля сознания компатриотов. Гомбровича незримый ангел-хранитель догадал превратить заграничное путешествие в бессрочную аргентино-французскую эмиграцию, каковая по истечении срока нацистов избавила его и от знакомства с отечественным коммунизмом, а Виткевич 17 сентября 1939 года опустошил флакон веронала и, будучи великим знатоком наркотических средств и прочих забвенных снадобий, для верности по-римски отворил себе жилы. Дело происходило в беззащитном белорусском Полесье, на узкой полоске земли, где он, спирит-предсказатель со стажем, невесть каким образом оказался вопреки очевидным и для незрячего приметам беды. Навстречу вермахту спешила союзная Красная армия, и Виткаций (это его псевдоним — лигатура имени и фамилии) не захотел дожидаться их братских объятий, которые бы вновь, словно не было рождения в слове, превратили его в довременную безмолвную глину — так растирают в ладонях шахматного короля, слепленного из хлебного мякиша.
Финальная его акция, должно быть, называлась «Презрение» — он не собирался обитать на одной территории с победителями. Кроме того, самоубийство обладало и вызывающим мистико-пародийным подтекстом, ускользнувшим от понимания современников. Виткевич объединял в себе целое непослушное племя — драматурга, прозаика, фотографа, рисовальщика, денди, коллекционера, парапсихолога, и, скопом убивая всю эту никчемную публику, он демонстрировал, что гекатомбы, к которым с обеих сторон устремилась эпоха, будут бессмысленными, ибо концептуальный жест массовой казни, подобно остальным артистическим акциям, однократен, неповторим, не требует воспроизводства. Этот жест им уже совершен, так что на долю тех, кто начнет после его гибели громоздить курганы из трупов, достанется лишь чудовищное подражание. Держа в руках свою коллективную смерть, словно чашу с собственной кровью, он как змею заклинал нетворческое, эпигонское время, убеждая его отказаться от бессодержательных копировальных замашек.
Самого важного обстоятельства Виткаций, однако, предвосхитить не успел, ибо оно не только опровергало Разумное, но и уничтожало все то, что дотоле было известно из области иррационального. Последнее, впрочем, — не более чем полярная разуму точка традиционной логической шкалы, тогда как речь уже шла об отмене всех привычных ориентиров и критериев распознавания сущностей. Дело в том, что истинное новаторство заключалось теперь не в самом факте гуртового убийства, которое случалось не раз, но в беспрецедентном количестве умерщвленных. Перейдя все пределы, убийство переставало быть подражательной философской банальностью по сравнению с самозакланием Личности, убивающей в себе тысячу душ. Непревзойденное своеобразие новой смерти состояло в том, что астрономически-массовая коллективность уничтожения делала невозможной спасительное посредничество одиночки, вознамерившегося взять эту смерть на себя, наподобие первородного прегрешения человечества. Привычная теология искупления, равно как и прочая «теология до концлагеря», устранялась отныне и присно. Добровольная крестная жертва, некогда ослепительно выделенная из безымянных толп, более не имела цены. Она вовлекалась в бесконечный ряд других жертв, растворяясь в их анонимности, как растворился в ней Виткаций.
Запальчиво разоблачаемый и по сей день нераспознанный в своей глубине афоризм о несостоятельности «стихов после Аушвица», по сути, трактует о том же. Индивидуальный миф — каковым в Новое время стала поэзия, — утверждавший свое совершенство в мире соразмерных пропорций и красочных иерархий, подорвался на минных полях обезличенно-статистических жизнесмертий и должен быть переосмыслен в эпоху ульев и муравейников. Нужны или совсем новые строки, невесть где рожденные и свободные от концлагеря, то есть от идеальной модели звериного царства количества, либо, на худой конец, обновленный и волнующе персональный, как компьютер, концлагерь — чтобы не застревал в частном певческом горле. Оба варианта кажутся маловероятными, что мы и видим на примере современных стихов, которые уже не возобновляют попыток побега из комфортабельных гетто. Их властью ничто более не свершается в этом мире, ибо они навсегда разминулись с ним в том самом месте, где лежали безымянные тела погибших во тьме, а стихи от рожденья привыкли оплакивать тех, кто имел при себе звонкое имя и красивую смерть на юру — скажем, Патрокла, или дипкурьера Нетте, или знаменитого матадора Игнасио Санчеса Мехиаса, пронзенного рогом после полудня…
В остальном же Виткевич свое будущее знал и был к нему хорошо подготовлен. Чужая судьба тоже открывалась ему как на ладони, благо испробовал он и хиромантию. Об этом, то бишь о зримо и массово проявленной участи, которая посильней будет гипотетических ужасов коллективного бессознательного, написан двухтомный роман «Ненасытность» (1932), дожидающийся русского перевода наряду с остальным вершинным Виткацием — вышеупомянутая подборка в «ИЛ», а равно и вышедший ранее миниатюрный сборник драматургии являются лишь случайной осколочной пропедевтикой к его фундаментальному критицизму.
В «Ненасытности» Станислав Игнаций сотворил все возможное, дабы читатель, не испытывающий специального тяготения к философии Гуссерля или Карнапа, проклял автора уже на десятой странице — описания извращенного Эроса начинаются несколько позже, да и от них проку мало, поскольку исполнена сия порнография в той же запутанной манере, что и весь текст, изобилующий к тому же фантастическими неологизмами. Виткевич, считавший роман жанром ублюдочным — емкостью для отбросов и «мешком всех вещей», достигает в этом тексте апогея инцестуозных слипаний: идеологии, совокупляясь друг с другом, рождают несчастных уродов. Если угодно, это вообще яркий образчик «инцестуозного письма» (пользуюсь термином, введенным в устный оборот Аркадием Неделем — философом из беэр-шевских пустых колодцев). События развиваются в условной Европе, подозрительно смахивающей на санационную Польшу Пилсудского; детали, однако, не столь и важны, потому что «будущее уже началось» и предназначено всем без разбора, стирая различенья частностей. Книга прочитывается как еще один системный отчет об упадке и разложении, в воронку которых втянуты прежде всего богема искусства и высшее офицерство: остальными слоями Виткаций справедливо пренебрег. Беспочвенное мышление и фальшивый католицизм соседствуют с наркоманией, эротика — с психопатичным смятением; смысл утерян, а свобода влечет за собой беспокойство, которое разряжается еще большей тревогой. Все подавленны и несчастны. Такова атмосфера. Дальше — интрига.


























