Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы
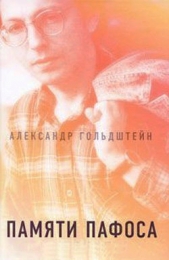
Памяти пафоса: Статьи, эссе, беседы читать книгу онлайн
Новую книгу замечательного прозаика и эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», премии Андрея Белого (посмертно), автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004), «Спокойные поля» (НЛО, 2006) отличает необычайный по накалу градус письма, концентрированность, интеллектуальная и стилистическая изощренность. Автор итожит столетие и разворачивает свиток лучших русских и зарубежных романов XX века. Среди его героев — Андрей Платонов, Даниил Андреев, Всеволод Иванов, Юрий Мамлеев, а также Роберт Музиль, Элиас Канетти, Джеймс Джойс, Генри Миллер и прочие нарушители конвенций. В сборник вошли опубликованные в периодике разных лет статьи, эссе и беседы с известными деятелями культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Школа бьет его обухом и накрывает пыльным мешком; проходит неопределенное время, прежде чем ему удается дотронуться до якобы беспорядочных знаков загадочного ее лексикона. Лишь тогда раздается дребезжащий звонок, отворяется понимание, и школа, словно наскучив обманом, принимает тот облик, в котором сквозит ее суть: се обиталище монструозной Незрелости, процеженной, как идея Платона, тяжеловесной, будто каменноликая химера Средневековья. Возвращение в школу (в большей мере, чем любая другая попытка возврата) равносильно кастрации и разрушению высших психических функций, если их можно назвать таковыми. Это отказ от себя, регрессивное западание в несвершенность, несостоятельность, в прыщи и потные ладони, в узилище и дальнейшее умаление, как на сей счет выражается автор. Незрелость уродлива, но хуже нее только зрелость — неподвижность изолгавшихся масок. Зрелое есть отрицание юного, с которым у Гомбровича задолго до старости были запутанные, болезненные отношения. Кажется, в нем не было тоски, вконец опустошившей Уайльда: дойдя до края ночи, до столпов отчаяния, он на процессе думал больше о том, как бы малость урезать свой возраст в глазах судей-шакалов и предателей из лондонского бомонда, а тюремный срок его страшил постольку-поскольку. И здесь величие Уайльда. Никогда не отказываясь от собственного возраста, Гомбрович каждым новым томом «Дневника» воздвигал печальный обелиск недостижимой юности, утверждая с изяществом все потерявшего шляхтича, что готов продать душу и писательское ремесло ради этой блистающей самоценности. Одновременно он культивировал дистанцию между собою и блеском, освоившись наблюдать его из партера, откуда это варварское сияние казалось эстетическим умыслом, а не грубейшим натуральным копошением гимназистов, до неприличия не знающих, к чему приложить свои руки. К сожалению, не имею понятия о его сексуальном наклоне и векторе. Но юным он никогда не был, даже молодость его под сомнением, или она вся изошла в упомянутый скептический текст.
Роман вращается на оси предрассветного морока, и в трагифарсовые школьные ворота с часовыми Незрелости-Зрелости шумно ползет настоящее, а будущее семенит на голубиных лапках. Пространство архаического затекания — это школьный двор, и потому ужасом переполнен он в межеумочный час ни-ночи-ни-утра. И потому становится двор местом битья залежавшихся ценностей и отрицанием еще не рожденных поступков, которые заведомо возбуждают гадливость. Каждый новый сюжетный узел в отсутствие нетерпеливого Александра самостоятельно разрубается свальной шутовской потасовкой идей, имитирующих актом слипания некую запоздалую эротику, бесплодность которой очевидна. Огонь критицизма жжет до последней страницы, восхищенья достойна проницательность автора, не растерявшегося перед злобным муравейником 30-х, но любим мы его не за это.
В нашем столетии было вдоволь качественных сочинителей, и даже число великих при трезвом подсчете едва ли покажется малым. Жаловаться, в общем, грешно. Недостача была лишь в безумцах, для которых не писан литературный закон. В «Фердидурке» Гомбрович — безумен. Он относится к числу тех поистине считанных единиц, кому удалось написать сумасшедший роман. Впоследствии он несколько притушил это врожденное свойство, стал работать якобы чище и совершенней (такова, например, его «Порнография», дрожащая от прикосновений позднего мастерства), но ухмыляющийся психопатичный абсурд неуклюжего «Фердидурки» стоит выше новой манеры. Если угодно, есть в нем «юность» и «зрелость» — та самая невероятная, но гармоничная смесь, от которой немеет школьный звонок и в труху рассыпаются парты. Так писать, как Гомбрович в первом романе, — нельзя. Никакой режим не потерпит. Не для того даны людям слова — прекрасные, серьезные, разрешенные. Нельзя, если ты не всамделишный графоман, так томительно застывать перед реальным и ждать, что из этого выйдет. А ему — как с гуся вода, он все равно побеждает. Пародийное дурновкусие в какой-то момент прирастает к лицу, обращается в «рожу» — излюбленный термин из его «метафизического» словаря. Он сам становится нарочито, подарочно дурновкусным, и при этом ему хоть бы хны, и он вновь торжествует. Чудовищная болтливость, десятый и сотый круг повторения все той же конструкции способны измучить даже профессионально мобилизованного читателя, но и на это Гомбровичу наплевать, и конечно, он прав, ибо дарит он неизмеримо большее. А именно — зрелище абсолютно неконвенционального литератора, по ходу дела, между болезненными ужимками и гримасами, созидающего новый повествовательный стиль. Безоглядный, трагический стиль, не боящийся предрассветного ужаса. Это моя патетика, а не автора.
Название этой заметки я не случайно взял у Леонида Липавского — философа круга обэриутов, летописца их мысли и жизнечувствования. Он сочинял трактаты и фиксировал разговоры нескольких обреченных друзей, думавших об остановленном внеисторическом мире и о слове как средстве против забвения. Гомбрович был их современником, и поэтика его мне кажется родственной обэриутскому фундаментальному неблагополучию, их великому несогласию. Потому что конвенциональная рабская литература осточертела и место ей на школьном дворе. «Господи, — могли бы сказать они, если бы могли. — Ведь это мы уже знали заранее» (Александр Введенский).
СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ
Как правило, русский поэт умирает в жестоком разладе со своей письменной, творческой участью. Он исчезает в прорехах материи невпопад, наобум и не вовремя — то раньше, то позже, нежели требует подлинный чин земного его воплощения. За редкими исключениями, которыми можно и пренебречь, он, чудится мне, с оскорбительным легкомыслием относится к срокам последнего растворенья в стихиях, как будто нимало не помышляя об итоговой гармонической конгруэнтности жизненного и литературного циклов, о том, чтобы эти непримиримо хищные звери навеки совпали друг с другом в согласии объединенного времени и легли рядышком, с точностью вровень, исполняя пророческий древний завет.
Русский поэт или уходит на заре обещаний — пусть остальные догадываются, в чем значение этой раны и куда его мог завести оборванный крик, или годами продолжает коптить мутное небо, не замечая, что уже все рассказал и на очереди только кошмары вечного возвращения, бессмысленный маятник над пересохшим колодцем. Подобно персидскому несчастливцу на исходе четвертой сотни ночей Шахразады, русский поэт не находит себя во времени там, где искал, и, ненадолго освобождаясь от рабства (если угодно — судьбы), вновь оступается на базарном сочащемся персике, попадая под власть все того же старого джинна.
Впрочем, это не вина, а национальный причудливый фатум. Так назначено и где-то записано, но, возможно, не только кириллицей. Гёте сокрушался примерно о том же во второй части «Фауста», оплакивая своего младшего сына — Байрона, Эвфориона. Иосиф Бродский этой общей судьбы не ушел. Мощный, оригинальный поэт умер в нем на недобрый десяток лет прежде человека по фамилии Бродский: их сроки опять-таки не совпали. Поздние стихотворения, аккуратно нанизанные на стержни конструктивных метафор, механически плавно изображают былое могущество, но что-то остановилось в глубине этой речи, какая-то вытекла из нее сила и радость, и пробоина не укрылась от языка, а равно, подозреваю, не осталась тайной для автора: так Самсон поутру, снявши голову, горько заплакал по волосам.
Безумно жаль Бродского-человека, хотя он, сроду не нуждавшийся в этой пошлой эмоции пострадавших, тем меньше нуждается в ней «сегодня», когда — прибегнем к высказыванию одного им любимого сочинителя, — должно быть, открыл для себя целое, при жизни обычно не наступающее. И только для целого не найти заклинания, для него нет единственно верного слова.
Но в конце концов можно было обойтись без этих несбыточных слов, и черт с ним, с упомянутым совпадением словесной и биографической воплощенности. Просто пожил бы как человек, заработавший на счастливую старость. Ведь он давно уже находился в разлуке с некогда ему свойственной речью (не верю, что не замечал перемены, иначе бы не загораживался так стойко от осознания) и даже отчасти привык к этим пустынным, припорошенным пеплом ландшафтам, как свыкаются с недостачей, утратой, потерей — будь то внутренних органов, близких родственников или страны.


























