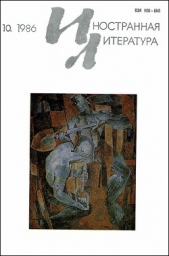На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986

На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986 читать книгу онлайн
Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет
Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.
Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.
Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Бухгалтерская» практика в издательском деле потянула за собой, кроме новоидеологического термина «сбалансировать», и другие подобные: «довести до ажура», «согласовать», «утрясти», «подогнать под общую сумму» (в данном случае сумму требований), наконец, «обкатать», т. е. сгладить острые углы.
«Соцреализм» открыто принимал формы подтасованного бухгалтерского баланса, в котором все должно «соответствовать».
Восторжествовала терминология не только канцелярская, но и медицинская, о чем упоминал: «проходимость» (об издательском процессе, как о кишечнике), и даже собачья: «Надо иметь нюх», — говорили молодому редактору. «Где твой нюх?» — кричали на провинившегося.
И редакторы — старались.
В воспоминаниях об Юрии Олеше у Паустовского есть фраза о портье, старике в лиловых подтяжках, который произнес старомодное слово купцов и коммивояжеров — «гратис», означающее, что товар отпускается бесплатно.
«Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа».
А вот в 1972 году, спустя четыре года после смерти К. Паустовского, воспоминания об Юрии Олеше «исправляет» младший редактор Е. Изгородина.
«Бесплатно потому… что платить некому. Трест эвакуировали. А я здесь вместо сторожа».
Редактор, как видим, начисто разрушает образ портье, импульсивного старика-одессита, далекого от логических «потому-почему». Изменяет стилистику фразы. И к тому же зачем вспоминать об Интуристе, который ведает специальными гостиницами для иностранцев?
Я подумал на мгновенье, что было бы с Бабелем, если б его отдали в руки Е. Изгородиной?! Отдали бы, в том у меня нет сомнения, если бы его не успели перевести на все языки.
Коли вот так беззастенчиво, без чувства языка «правят» классиков, тончайших стилистов, нетрудно представить себе, как поступают с теми, кто еще не стал классиком.
Редакторский разбой стал нормой поведения.
В трудном случае (автор еще жив и, хуже того, упрям) русский язык воссоздал другую фразу, изобличающую подлую практику: «Гнать зайца дальше». Это значит перекидывать рукопись от одного «внутреннего рецензента» к другому. Двенадцать рецензий, восемнадцать рецензий… Нечто вроде лагерного БУРа (барака усиленного режима). Посиди, автор, поразмышляй… Один из моих ранних романов вышел в свет, пройдя «сквозь строй» двадцати трех «внутренних» рецензентов.
Во сколько обходится государству эта редакторская трусость? У меня в руках точные цифры. Я выбрал не мертвый, юбилейный, а, напротив, год неслыханного либерализма — 1961-й, год писательской полуволи. Так вот, только за этот «вольготный» год и только в одном издательстве «Советский писатель» было выброшено на ветер, то есть на перестраховочное рецензирование, 133,5 тысячи рублей.
Такова плата за страх перед новой рукописью. Если взять все издательства, художественные, политические, научные, то, несомненно, плата за страх будет выражаться в десятках миллионов рублей.
Не надо, видимо, пояснять, что при укоренившейся системе «балансирования», «травли зайца», «обкатки» от печатных станков отбрасываются наиболее глубокие и зрелые книги. Последним на моих глазах было отброшено произведение Владимира Максимова «Семь дней творенья». Не будь тамиздата, оно погибло бы, как погибли десятки и сотни талантливых произведений.
Ну, а если отвергнуть трудно? Автор очень знаменит или влиятелен, или нежелательная книга написана так, что нельзя прицепиться. Или книга «проходима», да автор попал в черный список? Где-то что-то сказал… Тогда кладется на стол козырь последний и безошибочный — нет бумаги!
Пятнадцать лет подряд, на моей памяти, в Москве твердили: нет бумаги. «Финляндия нам не продает, а потому нет бумаги», — «конфиденциально» сообщили в ЦК партии.
Жечь книги, фигурально выражаясь, таким способом оказалось легче всего. Не надо входить в разговор по сути. На нет и суда нет!..
Позднее этот прием широко использовал КГБ, привлекая к ответу инакомыслящих не за мысли, а за что угодно: «спекуляцию», жизнь без прописки, тунеядство и пр. Отделы ЦК, ведающие пропагандой и культурой, шли тут впереди КГБ, прокладывая лыжню.
В последние годы откидывали от печатного станка «из-за отсутствия бумаги» до восьмидесяти процентов книг профессиональных писателей.
80 % — это смерть литературы: отбрасывается все самобытное.
Несколько моих товарищей решили выяснить: а так ли это? Действительно ли нет бумаги?.. После трудных хлопот была образована, еще в 1965 году, после изгнания Н. Хрущева, официальная писательская комиссия, которая выяснила, что бумага никогда не лимитировала работу издательств, в частности, издательства «Советский писатель». «На первое января 1963 года, как гласит документ, фактический остаток бумаги составил 1380 тонн — при норме в 1000 тонн».
Жульничали на всех уровнях. Директор издательства Н. В. Лесючевский объявил секретариату СП, что у него осталось 935 тонн бумаги. Проверили. Оказалось — 1250 тонн. 315 тонн скрыли даже от секретариата СП, от пресловутой «черной десятки».
В канун юбилиады начали срочно «модернизировать» бумажные комбинаты на Каме и др. Остановили машины, год-два бумага ценилась на вес золота.
Давно уже модернизировали огромные бумажные комбинаты на Каме, Волге, Северной Двине, а в издательствах еще долго талдычили полюбившееся: «Нет бумаги».
По-видимому, было бы справедливо поставить в Москве, рядом с памятником первопечатнику Федорову, монумент Главлиту, упразднившему книгопечатание.
Первый — открыл новые горизонты культуры. Второй — закрыл. Подменяя издание книг макулатуропроизводством.
…И все же разгром литературы не мог быть полным, пока жил, задавал тон «Новый мир» Александра Твардовского.
Я не знаю, останется ли на «отмелях времен» Твардовский-поэт. Его неунывающий Теркин, на том и на этом свете. Или ранний герой — Никита Моргунок, зажмурившийся на один глаз, чтоб не разглядеть — не дай Бог! — уничтожения русской деревни.
Твардовский — редактор «Нового мира» — сама история. Даже кривоватое зеркало солженицынского «Теленка…» отражает это в большой степени.
Каково же было ему, Александру Твардовскому, на самом деле трезво видевшему, что русская проза не Солженицыным началась и не Солженицыным кончится! Бека не отстоял, Гроссмана не сберег: одну из копий романа «Жизнь и судьба» КГБ изъял прямо из сейфа «Нового мира». Зато залыгинского Степана Чаузова поднял из праха; вместе с можаевским Федором Кузькиным вырвался на белый свет. «Пелагею» Федора Абрамова у Главлита зубами вырвал. Напечатал рассказ неведомой доселе Н. Баранской «Неделя как неделя» — горькую правду о женской эмансипации в СССР. А лучшее у Шукшина! У Белова! Всю деревенскую прозу на новомирской грядке взрастил. Василя Быкова от небытия спас… Знал, у кого что «залежалось». Ждал просвета, минуты. Перед Фурцевой унижался, перед поликарповыми на всех этажах ЦК шапку снимал. Ради страницы, абзаца, строчки правды.
Только тот, кто побывал когда-либо под обстрелом тяжелой артиллерии, когда земля сыплется на голову, скрипит на зубах, твоя земля, могильная — каждый снаряд может стать последним салютом, — поймет ощущение «новомирцев» в эти недели и дни.
На телефон смотрели, как на змеиную нору: оттуда и выползет беда…
Однако каждый месяц выходил он, ненавистный атомному государству журнал, ложился на прилавки в своих голубых обложках. Его кромсали, задерживали в цензуре, в ЦК, на Лубянке, в Политуправлении армии, а он продолжал каждым своим номером будоражить, возбуждать надежды. Он стал неузнаваемо гибок, обреченный журнал. Когда взяли за горло прозу, он «ушел в мелкий шрифт», как говаривали, т. е. в критические работы, набранные мелким шрифтом. Пригодился опыт Паустовского, его «Тарусских страниц». Статьи В. Лакшина, А. Лебедева, И. Виноградова, Стан. Рассадина, Э. Кардина, В. Огнева и других читались углубленно-вдумчиво, даже если и не содержали аллюзий или подтекста; читатель верил: «Новый мир» не обкатаешь…
Журнал шел к гибели неотвратимо, иронизируя над собой, как мы знаем, в вологодских «побасенках» Вас. Белова. Таким, как все, он быть не мог, да и не хотел. На миру и смерть красна.