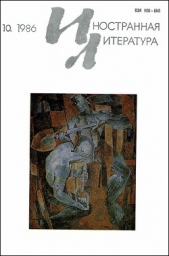На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986

На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986 читать книгу онлайн
Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет
Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.
Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.
Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Десятилетие Солженицына, фронтовика и зэка одновременно, приняло под свои стяги оба фронта, на которые ушло наше поколение, — фронт военный и фронт тюремный.
4. Двухлетний ренессанс. Евгения Гинзбург. Варлам Шаламов
На процессе «обожглись». Писателей за рукописи, попавшие в самиздат, перестали даже вызывать куда следует.
Каратели поутихли, и мы впервые ощутили вкус полузабытого слова «воля».
Два года полуволи. Семьсот тридцать суток.
Этого оказалось достаточно. Джинн был выпущен из бутылки. Джинн к тому же умудренный: «Клеймите за то, что писатели издаются под псевдонимами? Переправляют рукописи на Запад?.. Тайно? Обзываете «перевертышами», трусами?! Хорошо! Будем писать под своими фамилиями, явно! И давать читать другим! Всем, кто захочет!»
Атомное, устрашившее и мир и самое себя государство не было готово к этому массовому тактико-психологическому перевороту в сознании подданных.
Появились вдруг и чтецы-декламаторы, и авторы трактатов и открытых писем, украсивших бы любой литературный журнал. И даже не очень маскировавшиеся распространители самиздата. В Москве жил, к примеру, математик Юлиус Телесин. Теперь он вне России, я могу назвать его имя. Он являлся к друзьям, по обыкновению «шурша листами», которые он переносил под подкладкой пальто или куртки. В отличие от Гамлета, принца Датского, Юлиуса Телесина называли «принц самиздатский».
В своих записках, подготовленных уже после выезда из СССР, он, в частности, отметил эту любопытную сторону дела — растерянность карательного аппарата.
«Когда перед началом очередного обыска у меня дома, — пишет Телесин, — следователь обратился ко мне с предложением «выдать добровольно самиздат», я ответил, что если бы речь шла об оружии или наркотиках, то я бы понял, чего от меня хотят, точный же юридический смысл понятия «самиздат» мне неизвестен, и я просто не знаю, что именно его интересует».
Следователь, по рассказу Телесина, не нашел, что ответить.
«По-видимому, и для судебных работников пришло время уточнить это емкое понятие, — сообщает далее Телесин. — Недаром на первом «чисто самиздатском» показательном процессе И. Бурмистровича в мае 1969 года судья Лаврова почти каждому свидетелю задавала вопрос: что он, свидетель, понимает под самиздатом? Бурмистровича обвинили в том, что он распространяет произведения, «порочащие советский государственный и общественный строй», выбрали именно его, потому что проследили: он дает читать произведения Даниэля и Синявского, т. е. произведения клейменые. Официально приговором суда причисленные к «порочащим».
Суд в СССР, как известно, в отличие от английского, не руководствовался «прецедентным правом». А тут впервые, возможно, в советской юридической практике прибегли к «прецеденту» как к основаник) для новой серии процессов: в Уголовном кодексе РСФСР понятия «самиздат» нет.
Теоретическая мысль советской юстиции более полувека озабоченная лишь тем, как оправдать произвол карательных инстанций, пребывала в состоянии летаргии. Или после проработок в ЦК. — истерии.
Генерал-майор А. Малыгин в журнале «Молодой коммунист» № 1 за 1969 г. заявил, что «так называемый самиздат» рожден при прямом подстрекательстве западных разведок.
Страшновато звучит! Лет на десять со строгой изоляцией.
Однако на суде над Бурмистровичем о западных разведках и не вспоминали.
Обмишурились и на этот раз.
Пока юридические малыгины и топтыгины раскачивались, а раскачивались они более десяти лет примерно с 63-го до 73-го года, когда СССР решил для удушения самиздата присоединиться к Международной издательской конвенции, пока суды вопрошали, что такое самиздат, пока писателей только запугивали или травили во внесудебном порядке, — литература самиздата совершила свой рекордный взлет. Пишущие машинки застрекотали во многих домах. В портфелях и хозяйственных сумках поплыла по стране и так называемая «тюремная проза», лучшие рукописи которой окажутся произведениями, далеко выходящими за рамки «тюремного жанра», литература поднялась с такой же стремительностью, как и в 56-м году после антисталинского съезда. Только в отличие от 56-го года, года надежд, тюремная проза, клейменая каторжная проза не стала ждать казенного напечатания. Тут же стала самиздатом.
Здесь уместно замечание, существенное для исследователей этой темы: самиздат по очередности появления в СССР делится на две неравные части. Самиздат авторов, скажем, А. Солженицына и В. Гроссмана, который широко распространялся по стране и лишь затем уходил за границу. Магия славных имен действовала безотказно.
И самиздат никому неизвестных или молодых писателей, который вначале печатался за границей, а затем в случае успеха за рубежом приходил в СССР. Так пришел Андрей Амальрик.
Амальрика вскормил, ободрил самиздат известных писателей, хотя «писательский самиздат» появился на Западе, за немногим исключением, позже книг Амальрика. Синявский, Даниэль и Тарсис, как известно, так же не существовали в СССР, как самиздат до публикации на Западе.
Потоки были встречными, взаимно обогащающимися.
Но бывало и хуже; Запад долгие годы игнорировал самобытную рукопись, повесть В. Ерофеева «Москва — Петушки», которую Россия читает уже много лет и к которой еще вернемся. Быть может повесть «Москва — Петушки» была трудна для перевода? Или с ней, было трудно согласиться?
Самой талантливой книгой о Гулаге, кроме «тюремной прозы» Солженицына, по моему убеждению, является книга Евгении Семеновны Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» о женских лагерях.
Я познакомился с Евгенией Семеновной при обстоятельствах не совсем обычных. Я занимал выборную «малономенклатурную» должность. Ревизовал вместе с несколькими писателями правление жилищного кооператива «Советский писатель».
Мне сказали, что Е. Гинзбург после 17-ти лет лагерей и ссылок оказалась во Львове, бедствует. Похоронила мужа и теперь совсем одна. А в Москве ей жить негде.
На очередном заседании Правления я предложил выделить Е. Гинзбург квартиру в писательском доме. В успехе не сомневался: не было писателя, который бы не прочитал рукописи Е. Гинзбург.
И вдруг поднимается немолодой, с одышкой писатель Михаил З., по специальности «комсомолец-романтик», и высказывает официальную точку зрения: Е. Гинзбург — не член Союза писателей. И не может быть, так как книги ее не напечатаны. И поэтому давать Е. Гинзбург квартиру нельзя.
Наступила тишина. Я сказал:
— Сидеть в тюрьме все эти годы должен был ты, романтик, а не Евгения Семеновна. По ошибке она сидела вместо тебя. И вот благодарность!
Засмеялись. Закричали, закашлялись: «Голосовать!!!» И дали квартиру Е. Гинзбург — единогласно. Упорствовал один — пунцовый романтик.
На другой день ко мне домой постучала широкоскулая большеглазая женщина с черными цыганскими волосами и сказала прямо с порога:
— Мама я… Василия Аксенова… Ну да, Евгения Семеновна…
Мы подружились. Я мог бы рассказывать о Евгении Гинзбург часами. О ее горьком остроумии, не изменявшем ей ни в дни тревог, ни в минуты радости, когда она, скажем, говорила мне, зардевшись, как девушка:
— Гриша, да ты меня не осудишь? Замуж я выхожу… Все-таки в третий раз. Да и невеста я в годах, шестьдесят четыре скоро.
Не говори, замужество — дело великое! Моя подруга-однокамерница, та, с которой я в Ярославле сидела, померла, так неделю пролежала на полу, пока хватились. А в замужестве помрешь, сразу похоронят!..
Поселившись в писательском доме, Евгения Семеновна слепо уверовала в мою организационную удаль, которой я лишен начисто и все намекала, чтоб я построил еще и эскалатор в метро «Аэропорт». Для стариков-писателей и зэков, для которых лестницы — мука.
— Передохнем мы, битые-травленные, без эскалатора. Сердчишки у нас на исходе.
Семь лет прожили мы с Евгенией Семеновной по соседству, горевали вместе, смеялись, отправляли посылки ее дочке в Сибирь где «в магазинах ну хоть шаром покати». О чем только не было говорено-переговорено с ней, мудрой, неунывающей Евгенией Семеновной во время долгих ночных прогулок по Аэропортовским улицам, вдали от писательских домов, нашпигованных микрофонами.