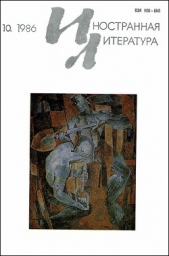На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986

На лобном месте. Литература нравственного сопротивления. 1946-1986 читать книгу онлайн
Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет
Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.
Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.
Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рядом была нарисована на всю стену, огромная голова Корнея Чуковского. Стихами его о «Мойдодыре» начиналось восприятие жизни почти каждым ребенком в России. Корнея Чуковского долго поносили, особенно когда на репинской даче было найдено и отправлено «куда следует» его письмо к Репину, в котором Чуковский умолял Репина не возвращаться в сталинскую Россию.
И вдруг на всю стену добрый шарж на носатого Корнея Чуковского с ободряющей подписью: «Нашдодыр».
Рядом — стихи Михаила Светлова, примирительно-иронические, о «проработчиках», которые всюду ищут обратную сторону медали. Успокойтесь, мол…
Открыла «действо» Ольга Форш, старейшая писательница, умница, интеллигентка, язва. Она сказала в фойе о представителе ЦК партии на писательском съезде: «Да разве у него лицо? Коровье вымя!»
А на трибуне она прошелестела что-то по бумажке, которую ей подал, почтительно горбясь и ведя ее под руку к трибуне, Константин Федин. Ни единой мысли не было в этой бумажке, заготовленной, видимо, тем же «коровьим выменем».
Если вдуматься, какая это трагедия, когда совесть нации, ум и талант начинают шелестеть пустыми канцелярскими бумажками!
Вряд ли я когда-либо забуду талантливого Павла Антокольского с расширенным ужасом глазами Акакия Акакиевича, у которого украли шинель. И шинели не вернешь, и жаловаться некому.
Треть зала стала с шумом подниматься и выходить в коридоры.
И вдруг началось обратное движение! Помню, как повалили в зал писатели, дожевывая на бегу бутерброды. Это объявили выступление «блокадной поэтессы» Ольги Берггольц.
Белое, испитое, измученное лицо ее и едва слышный мерцающий голос вызвали в президиуме почти панику: она заговорила о праве писателя на самовыражение… О том, что без самовыражения нет ни писателя, ни литературы… И вдруг, повернувшись к дергающемуся президиуму, она сказала с усталостью и застарелой тоской вечного зэка:
— А вообще вам этого ничего не надо… Литературы, говорю, не надо. Вам нужен один писатель, да и то…
Ни я, никто из соседей так и не разобрали завершающего слова… «Да и то… что? «да и то…?»
Это слово выпало из официальной стенограммы, из которой вообще выпадало довольно много.
Мы принялись выспрашивать всех подряд: «… Что «да и то…?»
Сама Ольга Берггольц уже не помнила: она сидела в буфете, в углу, наливая дрожавшей рукой водку в стаканы и стараясь хоть таким путем быстрее уйти, пускай на время, из этого страшного мира, где литературу публично казнят, как некогда казнили цареубийц.
Допросы без сна, лагеря, расстрел мужа — поэта Бориса Корнилова, ленинградская блокада, безнаказанность доносчика Лесючевского, ставшего после войны руководителем издательства «Советский писатель», избиение послевоенной литературы — все это было не под силу худой маленькой женщине без кровинки в лице, — кто осудит ее, героиню ленинградской блокады?
Наконец общими усилиями текст Ольги Берггольц восстановили, и «Литературная газета» вынуждена была точно воспроизвести этот порыв самовыражения Ольги Берггольц, сказавшей в заключение: «… вам нужен один писатель, да и то усопший…»
Первым почувствовал опасность понятия самовыражение Александр Фадеев — недаром так ценились его услуги… «Такую терминологию используют декаденты!» — немедля отозвался он.
Самовыражение! Да ведь это, по сути, то же самое, чего требовал Владимир Померанцев. Дай волю самовыражению — писатели начнут выражать собственные мысли и чувства, а не партийную линию…
Казалось бы, невинное слово «самовыражение» так всполошило президиум съезда, что не дали выступить даже Константину Паустовскому…
Еще в 47-м году, на совещании молодых, он требовал от нас, чтобы мы никогда не расставались с чувством внутренней свободы… Без этого нет литературы.
У него начался тогда приступ астмы. Константина Георгиевича увели под руки, уложили на диван, он хрипел:
Чувство внутренней свободы… без этого нет…
Пушкин первый сказал на Руси, Блок понес дальше, как эстафету, это пушкинское выражение «тайная свобода». В «Пророке» Пушкина ухе вся программа.
Константин Паустовский, руководитель семинара прозаиков, не мог завещать нам чувство «тайной свободы». Тайная свобода — таких слов и произносить было нельзя в казенных местах. «Тайная — от кого? — немедля спросили б. — Зачем?»
Однако даже мы, начинающие, поняли тогда, что хотел сказать нам Константин Паустовский, сдержанный, осторожный Константин Георгиевич, который, как нам казалось, избегал политики…
А матерые доносчики из президиума уж точно знали, чем «дышит» Константин Георгиевич. Кто-то из подставных лиц закричал: «Подвести черту!» А все уже устали от болтовни, от ораторов-вулканов, извергающих вату…
32 писателя Москвы тут же отказались от слова в пользу Паустовского. Об этом Александр Бек прокричал на весь зал, чтоб пристыдить президиум… Какое!
Ни тени неловкости не было на лицах Суркова, Симонова, Корнейчука, этой птицы-тройки литературных мероприятий, только деловитость и чувство государственной важности своей миссии.
Никому, ни одному честному писателю не дали выступить — ни Константину Паустовскому, ни Степану Злобину, ни Александру Беку.
Помню, как Паустовский поднялся в середине зала, сгорбленный, точно придавленный, и медленно вышел, пристукивая тростью по полу. Стало тихо-тихо. Даже в президиуме. Стук, казалось, усилился. И долго звучал в моих ушах: тук-тук-тук!
И я подумал тогда впервые: «Какой же это съезд? Это в самом деле виселица на колесах. Простояла в сарае двадцать лет за ненадобностью: убивали другими способами, более современными, а теперь понадобилась, убрали свежими цветами и подкатили снова, чтобы литература не делала и попыток самовыражения…
Литературе нравственного сопротивления опять, в который раз, была показана намыленная веревка. И снова, в который раз, ее не удалось запугать…
Тогда решили обмануть. Заявили во всеуслышанье, что отныне и вовеки руководить литературой будут сами писатели. Са-ми!..
Партийный функционер, опора Жданова, ненавистный большинству писателей Д. Поликарпов, который до этого дня принимал страждущих в знаменитом московском «доме Ростовых», где обосновался Союз писателей СССР, пересел в другое кресло. Не писательское… В сером здании ЦК — ведал всей советской культурой.
Правда, он успел выбросить со двора Союза писателей статую Родена «Мыслитель».
Каменный мыслитель был живым укором.
Больше никто не каменел в зеленом писательском дворике, пригнувшись, в напряженном и мучительном раздумье…
4. «Булыжник — оружие пролетариата»
Заклеймили «самовыражение» Ольги Берггольц, сбросили под откос Владимира Померанцева с его тоской по искренности, растоптали «Оттепель» Ильи Эренбурга.
И в новом, 1955 году руководители Союза писателей пытались сохранить идеологию и тактику выжженной земли.
Тактика выжженной земли — это значит: ни одной статьи или книги, концепция которых хоть на волос отклонялась бы от сиюминутной «партийной» линии, сиюминутных окриков и указаний секретарей ЦК партии.
Тактика выжженной земли — это только одна точка зрения; единое — непременно единое! — мнение обо всем на свете. Особенно в духовной жизни.
И вдруг поднялись ветры, странные ветры, впервые потянувшиеся, думаю, из восставших лагерей, которых вначале давили танками, а затем начали «расформировывать»… Лагеря требовали одного — правды. За всю Россию требовали — правды… Эти новые и суровые ветры-поветрия задували порой ревнителей сталинской выучки, помогая уцелеть первым и робким литературным протестам.
Первой подняла голову публицистика — литературная разведка, шедшая впереди фундаментальной прозы.
Проза требует времени. Публицистика — как камень на дороге. Преодолей, писатель, страх да метни. «Булыжник — оружие пролетариата» — эти слова начертаны на постаменте одного из «шедевров» социалистического реализма — скульптуре рабочего, потянувшегося в ярости и отчаянии за булыжником.