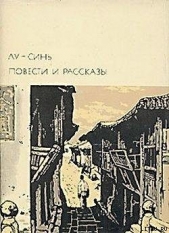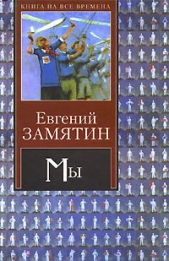Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
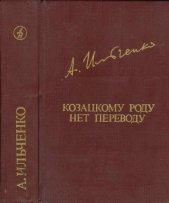
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица читать книгу онлайн
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Шляхетные панны всегда склонны к беседам таинственным, — щелкнул пальцами Раздобудько. — Допытывалась, как люди знающие добывают клады с помощью отрубленной руки мертвеца.
— Что это ей взбрело на ум?
— Воспитание по монастырям… чего ж ты хочешь! — И тихо добавил: — А охотятся за ней недаром!
— Чья-то прихоть! — пожал плечами пан Пампушка. — Ни щек порядочных, ни грудей, ни всего прочего! Не разумею! Души в ней более, чем тела!
А отчаянная панна, воротясь в свой покой, всем сердцем стремилась к тому простодушному голодранцу.
И в мыслях звала:
«Приди! Приди!»
И Михайлик тот зов услышал.
Он спал как раз, и все это ему приснилось.
Во сне он слышал, как Подолянка звала:
— Приди… в сад… под окно… да приди же!
Он сладко храпел в холодочке, за кузней ковалика-москалика, к коему матинка и сын поспешали весь день.
Разыскав коваля, увидели, что они уже малость знакомы, ибо сей Иванище, тульский богатырнще, со своей белокуренькой женушкой, которую все величали Анною, смотрел вместе с Явдохой и Михайликом представление Прудивуса, а потом коваль Иванище видел на подмостках и самого Михайлика, — вот и встретили в кузне парубка и его матинку как родных и желанных.
— Примите на работу, — попросил Михайлик и учтиво поклонился ковалю и белокуренькой бойкой ковалихе.
— А ты нешто не лицедей? — спросил русый богатырь, Иванище-ковалище.
— Бог миловал, — с достоинством, без тени улыбки отвечал степенный парубок.
— Мы — ковали, — подтвердила и матинка. — А на работу в вашем городе чужих да пришлых не берут.
— Да нешто вы чужие? — удивленно спросила Анна.
— Словно бы уж и свои, — согласился Михайлик.
— Мы тут не первый день, — молвила и матинка.
— Тебя уж весь город знает, — пожал плечами и здоровенный Иванище.
— Так примете? — спросил парубок.
— А зачем тебе идти в ковали?
— Как это «зачем»? — удивился Михайлик.
— Ты ж разбогател сегодня?
— Малость…
— Кусок хлеба есть?
— По работе соскучился.
— Так сильно?
— Аж руки горят!
— Что ж ты умеешь?
— Давайте-ка молот!
— Выбирай…
Схватив самый большой, Михайлик уж и размахивал им, и постукивал по голой наковальне, пока грелось в горне железо, от нетерпенья не мог и на месте устоять, когда к ним с матинкой подошла ковалиха Анна:
— Обедали сегодня?
— Обедали, — с достоинством отвечала Явдоха.
— Вестимо, обедали! — волей-неволей поддержал свою гордую матинку сынок.
— Разбогатели малость, — важно добавила матинка.
— А мы вот собрались вечерять, — поклонилась Анна. — Может, и вы — с нами? Пора бы!
— Мы… — начала было упрямая матуся, да Михайлик наконец не выдержал и быстрехонько согласился:
— Спасибо… уж верно, пора. Правда, мамо, пора?
И боязливо глянул на разгневанную в своей бедняцкой гордости матусю.
— Что ж, сынок, коль просят люди… — И Явдоха принужденно поклонилась хозяйке.
Положив молот, Михайлик попросил умыться. Из ковшика на руки ему поливал чуть не десяток мелкой, словно куколь, Ковалевой детворы, и малыши, коим вдруг по душе пришелся этот здоровенный хлопец, уже ссорились за право держать ковшик, за то, чтобы подать рушник, а их мама, чистенькая и ладная Анна, белокурая с рыжинкой, хороша, что огонек, покрикивала на детей, и Михайлику всякий раз казалось, будто малышей становилось все больше и больше, — он пытался даже пересчитать эту мелкоту, да от целодневной усталости все сбивался, и у него получалось — то одиннадцать, то двенадцать, то тринадцать, потому как от запаха пищи кружилось в голове.
Детвора почти не ела в ту вечерю, а все смотрела и удивлялась, как же здорово ест новый ковальчук, этот самый Михайлик.
Ел хлопец быстро и смачно, отдавая должное вареву приветливой Анны.
Поблагодарив бога и хозяйку, он наконец перекрестился и снова поспешил в кузницу, где уж томилось в горне железо, чтоб поскорей взяться за работу.
Но… до кузни хлопец не дошел.
Он на миг остановился возле березки белокорой, потрогал для чего-то ее ствол, потрогал еще раз, провел рукой чуть выше, обнял ту березоньку, прильнул к ней щекою, к ее коре, которая на ощупь напоминала человеческое тело, — прислонился… и сразу уснул.
Стоя.
Опьянев от всего, что пришлось пережить за этот богатый день.
Опьянев от еды.
Заснул…
Коваль Иванище, пряча от обидчивой Явдохи улыбку, обнял хлопца, опустил его на землю, положил под голову осиновое полено, подсунул сенца под бок.
Но Михайлик не проснулся.
Словно прильнул ушком к пуховым подушкам.
А уж когда ему приснилось, как Подолянка его кличет — ой! — прийти ночью в архиерейский сад, он даже встал было, чтоб поскорей броситься к ней, да снова упал, как трава на острую косу.
Пока наш Михайлик храпел и сопел за кузницей так, что пар над ним поднимался, Прудивус, брат Омелька, вместе с Явдохой и челядниками коваля Иванища перетаскивали с базара в кузню все добро, добытое талантом ее сына, щедрые даяния мирославцев, и пришлось-таки вдоволь потрудиться, пока перенесли все, что пришлось на долю молодого кузнеца.
Пока он спал, как после купели, к москалю Иванищу и его славной женушке явились жданные гости: пришел проститься сын Глека-Юренка, Омельян, что вот-вот должен был тронуться в путь. А с ним — Лукия, гончарова дочь. За ней вступил в кузню и цехмистр гончаров, старый Саливон Глек, добрый друг Иванища и его селяночки Анны.
Так что Тимош Прудивус, отца своего еще на дороге увидев, еле успел улизнуть из кузни через другую дверь, ибо не осмелился-таки попадаться старику на глаза, и подался куда-то, чтоб встретиться с братом хоть при выходе из города, пока этот единственный теперь выход еще не преградили однокрыловцы.
Мешкать гостям не приходилось, Омелько поспешал, потому и оставались в кузнице недолго.
Анна вручила Омельку голубя-гонца, коего парубок должен был беречь в дороге, как свою свободу, чтоб выпустить его с письмом уже в Москве, после встречи с царем всея Руси.
Омелько взял голубя умелой рукой, пропустив лапки меж пальцев, и птица трепетала и радужным горячим глазом глядела на Омелька.
— В Москве замужем старшая моя сестра Мария, — молвила Анна Омельяну. — За гончаром Шумилом Ждановым. — И молодуха рассказала хлопцу, как там найти ее родичей, велела поселиться у них, чтоб, при нужде, можно было заработать на кусок хлеба в их гончарне, и все это Анна говорила так просто, что и на ум не приходило отказаться, и была та пригожая тульская молодайка хороша, как тихое лето, как некошеная трава в ясный день, хоть и народила добрый десяток детей (что годок, то и сынок!), хоть были кузнецы с детворой этой бедные-пребедные (душа — не балалайка, есть просит!), однако жили весело и дружно. Малолетки в работе помогали, но семья все не могла разжиться, да к тому ж Иванищу приходилось терпеть еще и притеснения ковальского цеха в городе Мирославе, что налагал на пришлого мастера все большие поборы.
Как ни были они бедны, да ради таких проводов нашлась в доме и чарка на дорогу, и сала кусок, и хлеба вдосталь, а был он у Анны всегда выпечен, как солнышко, что и у гетмана лучшего не бывает…
Помолчали, присев перед дальней дорогой, где кто стоял: кто на большую наковальню, кто на чурбак, кто на пушку, подбитую во вчерашнем бою, потом встали, перекрестились на образ Косьмы и Демьяна, божьих ковалей, плюнули на морду черта, намалеванного для сего у двери, и двинулись было к выходу, да Иванище сказал:
— Сие — тот самый черт, коего я поймал недавно в вершу на Рубайле. А он мне и говорит: «Пусти меня, я — черт». — «Ладно, съедят дети с хлебом». — «Так я ж — нечистый!» — «Жена вымоет, все ж борщ вкусней будет…»
— И что ж? — спросил Омелько.
— Съели, — грустно усмехнулся Иванище. — Больше-то ничего не было…
Все засмеялись, хоть и невесело, и вышли из кузницы.