Последний римский трибун
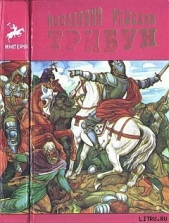
Последний римский трибун читать книгу онлайн
Действие романа происходит в Италии XIV века. Кола ди Риенцо, заботясь об укреплении Рима и о благе народа, становится трибуном. И этим создает повод для множества интриг против себя, против тех, кого он любит и кто любит его... Переплетаясь, судьбы героев этой книги поражают прежде всего своей необычностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Колонна вздрогнул.
– Великий трибун, – сказал он с легкой усмешкой, – прикажите повременить, пока еще не слишком поздно. Я не помню, чтобы когда-нибудь я гнулся пред вами в качестве просителя, но теперь я прошу пощадить моего собственного врага. Стефан Колонна просит Колу ди Риенцо пощадить жизнь Орсини.
– Я понимаю ваш упрек, – сказал Риенцо спокойно, – но не сержусь на него. Вы враг Орсини и ходатайствуете за него – это называется великодушием; но, послушайте – вы более друг своему сопернику. Вы не можете вынести того, чтобы человек, довольно знатный для состязания с вами, погиб, как вор. Я отдаю должное такой благородной снисходительности; но я не из благородных и не сочувствую ей. Еще одно слово. Если бы это было единственным преступлением, которое сделал этот барон-бандит, то ваши просьбы за него могли бы быть уважены, но разве жизнь его неизвестна ? Разве не был он с детства ужасом и бедствием Рима? Сколько женщин, подвергнувшихся его насилию, сколько ограбленных купцов и мирных людей, которые среди белого дня восстают против него страшными обвинителями! И для этого человека старый князь и папский викарий просят помилования! Фи! Но я вознагражу вас: я прощу для вас первого бедняка, которого закон приговорит к смерти.
Раймонд опять отвел трибуна в сторону, между тем как Колонна силился подавить свое бешенство.
– Мой друг, – сказал епископ, – нобили сочтут это оскорблением для всего своего сословия; само ходатайство жесточайшего врага Орсини должно тебя в том убедить. Кровь Маргино запечатлеет их примирение друг с другом, и они восстанут против тебя единодушно.
– Пусть будет так: с помощью Бога и народа я осмелюсь быть справедливым. Колокол перестал звонить, вы уже опоздали. – С этими словами Риенцо отворил окно: возле лестницы Льва стояла виселица, на которой качалось в одежде патриция еще трепещущее тело Мартино ди Порто.
– Смотрите! – сказал трибун сурово, – так умирают все разбойники. Для изменников тот же самый закон назначает топор и плаху!
Раймонд отступил и побледнел. Но не побледнел ветеран-патриций. На глазах его выступили слезы уязвленной гордости; он подошел, опираясь на свою палку, к Риенцо, прикоснулся к его плечу и сказал:
– Трибун, и без измены явился судья, злобствующий на свою жертву!
Риенцо с такой же гордостью обратился к барону.
– Мы прощаем пустые слова старикам. Синьор, вы закончили? Мне бы хотелось побыть одному.
– Дай мне руку свою, Раймонд, – сказал Стефан. – Трибун, прощай. Забудь, что Колонна просил тебя, мне кажется, это нетрудно: несмотря на свою мудрость, ты забываешь то, что помнит всякий другой.
– Что такое, синьор?
– Рождение, трибун, рождение – это все!
– Синьора Колонна приняла мое прежнее звание и сделалась шутихой, – отвечал Риенцо равнодушным и непринужденным тоном.
Затем, проводив Раймонда и Стефана глазами, пока дверь не затворилась за ними, он прошептал:
– Наглец! Если бы не Адриан, твоя седая борода не защитила бы тебя. Рождение! Чем бы Колонна гордился, если бы он не был внуком императора! Старик, в тебе таится опасность, за которой надо наблюдать. – С этими словами Риенцо задумчиво повернулся к окну, и опять его глазам представилось ужасное зрелище смерти. Народ, собравшийся внизу огромной толпой, со всем диким шумом, означающим торжество черни над сокрушенным врагом, радовался казни того, чья жизнь вся была позором и грабительством, но который, казалось, был недостижим для правосудия. И Риенцо услышал крики:
– Многие лета трибуну, справедливому судье, освободителю Рима! – Но в эту минуту другие мысли сделали его чувстве глухими к народному энтузиазму.
– Мой бедный брат! – сказал он со слезами на глазах. – Ты убит, благодаря преступлениям этого человека; и люди, не имевшие жалости к ягненку, кричат о состраданье к волку! О, если б ты теперь был жив, как бы кланялись тебе эти гордые головы, хотя мертвый ты не был удостоен ни одной их мысли! Да упокоит Бог твою кроткую душу и сохранит мое честолюбие таким же чистым, каким оно было тогда, когда мы прогуливались вместе в сумерки!
Трибун затворил окно и пошел в комнату Нины. Услышав ею шаги, она встала. Глаза ее сверкали, грудь вздымалась, и когда он вошел, она бросилась к нему на шею. И прошептала, припав к его груди:
– Целых несколько часов прошло с тех пор, как мы расстались!
Странно было видеть, как эта женщина, гордая своей красотой, своим положением, своими новыми почестями, женщина, великолепное тщеславие которой составляло предмет толков в Риме и упреков для Риензи, изменилась внезапным и чудесным образом в его присутствии! Она краснела и робела, вся гордость ее, казалось, исчезла в ее любви к нему.
Женщина не любит во всей полноте страсти, если она не благоговеет перед тем, кого любит, если она не чувствует себя униженной вследствие преувеличенного мнения о превосходстве предмета своего обожания, радуясь этому унижению.
Может быть, сознание различия, делаемого Ниной между ним и всеми другими, увеличивало любовь трибуна к своей жене, заставляя его быть слепым к ее несправедливостям относительно других и снисходительно смотреть на ее великолепную пышность. Было в некоторой степени разумно окружить себя великолепием, но оно доведено было до таких размеров, что если и не способствовало падению Риенцо, то послужило римлянам извинением в их трусости и измене, а историкам – достаточным объяснением обстоятельств, в которые они не постарались проникнуть глубже.
Риенцо отвечал на ласки жены с такой же любовью. Он наклонился к ее прекрасному лицу, и взгляда на это лицо было достаточно для того, чтобы согнать с чела трибуна тень суровости и грусти, которая недавно его омрачала.
– Ты не выходила в это утро, Нина?
– Нет, было слишком жарко. Впрочем, Кола, я не имела недостатка в обществе: половина римских матрон толпилась во дворце.
– Да, я уверен в этом. Ну, а что там за мальчик? Это, кажется, новое лицо?
– Тс, Кола, умоляю тебя, говори с ним ласково: его историю я сейчас расскажу тебе. Анджело, подойти сюда. Это твой новый господин, римский трибун.
Анджело подошел с несвойственной ему застенчивостью, потому что Риенцо от природы имел величественную осанку, а со времени достижения им власти она, естественно, приняла более важный и строгий вид, который внушал невольное благоговение всем приближавшимся к трибуну, не исключая и посланников владетельных особ. Трибун улыбнулся, увидав произведенное им впечатление, и от природы любя детей, ласковый ко всем, кроме знатных, поспешил развеять его. Он с любовью взял мальчика на руки, поцеловал его и приласкал.
– Если бы у нас был такой хорошенький сын! – прошептал он Нине; она покраснела и отвернулась.
– Как тебя зовут, мой маленький друг?
– Анджело Виллани.
– Тосканское имя. Во Флоренции есть ученый, который в эту минуту, без сомнения, пишет наши летописи по слуху: его фамилия Виллани. Не родня ли он тебе?
– У меня нет родных, – сказал мальчик отрывисто, – и тем более я буду любить синьору и уважать вас, если позволило. Я римлянин – все римские мальчики уважают Риенцо.
– В самом деле, мой славный мальчик? – сказал трибун, покраснев от удовольствия. – Это хорошее предзнаменование, которое предвещает мне продолжительное благоденствие. – Он опустил мальчика и бросился на подушки. Нина присела на низкой скамейке возле.
– Останемся одни, – сказал он, и Нина дала своим прислужницам знак удалиться.
– Возьмите с собой моего нового пажа, – прибавила она. – Он слишком недавно из дому и, может быть, не в состоянии будет забавляться обществом своих резвых товарищей.
Когда они остались наедине, Нина рассказала Риенцо о событиях утра. Хотя, по-видимому, он слушал ее, но он смотрел рассеянно и очевидно был углублен в другие мысли. Наконец, когда она кончила, он сказал:
– Хорошо. Нина; ты поступила, как всегда, с добротой и благородством; поговорим о другом. Мне грозит опасность.
– Опасность! – повторила Нина, бледнея.


























