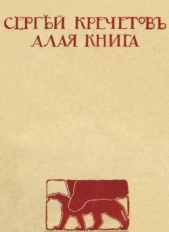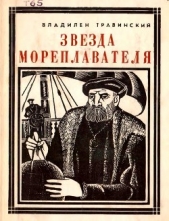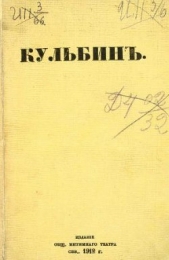Утро синее. Солнце в окно.
Жизнь намчалась, как галочья стая.
Все былое во мне сожжено,
И грядущее жжет, вырастая.
И откуда такая мне синь?
И откуда такая мне радость?
Я пришел из кровавых пустынь,
Из-за проволок тесной ограды.
Были — помню как будто в бреду —
Трупы втоптаны в липкую землю.
Под луной я в ущелье иду,
И вокруг меня мертвые дремлют.
И вокруг меня волки стоят,
Над скелетами плачут шакалы,
Что людей пожирает снаряд,
Что достанется мяса им мало.
Очень просто был мир поделен:
Были только живые и трупы.
Было трудно с мирских похорон
В жизнь ногою обмотанной хлюпать.
Но пришел я, себя волоча,
Рядовым в огневые колонны,
И горело древко у плеча,
Подымая плакат раскаленный.
В ногу с юностью! В ногу с тобой,
Молодое, веселое племя!
Отпугни пионерской трубой
Гроба раннего легкое бремя!
Все, что знаю, — скажу. Все отдам,
Что скопил за тяжелые годы,
Этим жадным бессчетным глазам,
В эти ярые первые всходы.
Солнце юности! Стало быть, ты
Подарило мне смелую силу
Путь найти из-за мертвой черты
И забыть помогло про могилу.
Чтобы мог я понять лишь одно,
Что пою, из себя вырастая:
«Утро синее! Солнце в окно!
Жизнь намчалась, как галочья стая».
Апрель 1926
Нет, не белый взлет метелей
Над землей необозримой.
Нет, не судорога в теле
Неразгаданной любимой.
Нет, не шаг ночных прохожих
В тихий дом, к теплу и свету.
Нет, не гул весенней дрожи
В горных льдах, летящих к лету.
Это тише шума листьев,
Рвущих почки. Легче звука.
Это зимних звезд лучистей.
Это радостная мука.
Это в самых малых порах
Сердца, жаждущего биться.
Это шелест слов, в которых
Мысль моя сейчас родится.
1926
Шуршат пожухлые страницы,
Бумага желтая бледна.
Но сквозь заглавных букв ресницы
Какие смотрят времена!
С какой товарищеской лаской
В себя впивали новый мир
И этот корпус с блеклой краской,
И этот стертый эльзевир!
Наборные старели кассы,
Сбивались армии шрифтов,
Но бороной в людские массы
Врезались полчища листов.
И невозможно без волненья
Держать седой комплект в руках, —
Истории сердцебиенье
Я слышу в буквенных рядах.
Я помню: мерзнули чернила,
В шинели мерзнул журналист, —
Но даль грядущего манила
Всего себя влить в этот лист.
И мысль, исхлестанная болью
Гражданских бедствий и войны,
Рвалась со всей людскою голью
На ленинские крутизны.
И вот мы год за годом крепнем,
Неукротимо мы растем.
И если шаг наш старым щебнем
Замедлен — щебень разметем.
И если час случится хмурый,
Устанет мозг от маеты,
Милей нам всей литературы
Вот эти желтые листы.
1927
Там, в старине, я вашим там был.
И я вас бросил. И опять
Вы на меня напали, ямбы,
Чтоб песню берегом обнять.
Все, все, что было в страшном мире,
Где задыхались старики,
Послушно строилось в четыре
Такие ж тесные строки.
Но мир ямбических поэтов
Огнем и кровью обновлен.
Я средь обугленных скелетов,
Упавших храмов и колонн.
А из развалин, из равнины
Встает несметный топот толп.
Они несут, как исполины,
Для новых зданий первый столп.
Старинный ямб, ты стал мне тесен!
Загрохотавшее борьбой,
Во мне, дрожа от новых песен,
Переменило сердце бой.
Я ритмы рвал. Был звук мой молод,
Как не звучавший никогда.
Я брал с постройки грузный молот.
Дробилось слово, как руда.
И вот, среди ударов грома,
Опять настала тишина.
К крыльцу построенного дома
Пришла счастливая страна.
Там, в буре дней, чужим я вам был,
Немые ямбы! И опять
Вы на меня напали, ямбы,
Чтоб песню берегом обнять.
Сдаюсь. Ведь даже бури ропот
Вошел в глухие берега.
Пускай ямбические стопы
Скуют недавнего врага.
Весь этот гул годов багровых
Берите в тесный свой квадрат,
Пока раскаты взрывов новых
Его опять не раздробят.
1925, Москва