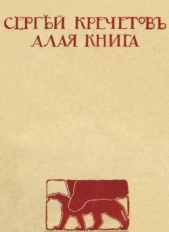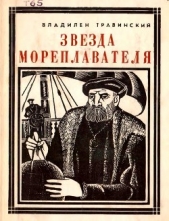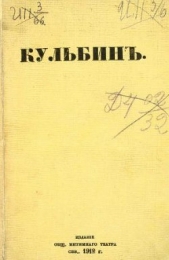В те годы, в страшные те годы,
Когда в провале двух эпох
Мерцали мертвые эподы
Кошмарами Эдгара По, —
Когда свирелями Верлена
Звенел в поэтовой молве
Закон губительный: из плена
Лети, лети! — Au vent mauvais! [61]
Когда как мертвых листьев шорох
Был слог, был звук, был лепет слов,
Зануженных в шаманьих шорах, —
Свое он начал ремесло.
Да. Помним. Заласкать мещане
Хотели бронзу, сталь и медь,
Чтобы от их проржавых тщаний
Гортани гневной онеметь.
Но Врубелем в тончайший контур,
Собой — в законченный портрет
Навеки впаян, — горизонту
Ночному был он строгий свет.
Кругом на отмели и рифы
Бросались в гибель корабли,
И клювами когтили грифы
Мыс Прометеевой земли.
Кликуши плакали и выли,
Освистывали пьедестал
И злобой харкали — не вы ли,
Кто нынче в гроб ему рыдал?
Он устоял, шальному тропу
Подковой мягкий рот стеснив,
Валун Рутении в Европу
Перегранил — Бореев с нив.
И стал над безднами провала,
На грани берегов иных,
На догоранье карнавала
Смотрел с презреньем седины.
И первым смелым из былого
Вошел в огонь, в грозу, в Октябрь,
Свое взыскующее слово
С багряной бурею скрестя.
1924, Москва
За взлетом розовых фламинго,
За синью рисовых полей
Все дальше Персия манила
Руками старых миндалей.
И он ушел, пытливо-косный,
Как мысли в заумь, заверстав
Насмешку глаз — в ржаные космы,
Осанку денди — в два холста.
Томился синий сумрак высью,
В удушье роз заглох простор,
Когда ко мне он ловкой рысью
Перемахнул через забор.
На подоконник сел. Молчали.
Быть может, час, быть может, миг.
А в звездах знаки слов качались,
Еще не понятых людьми.
Прорежет воздух криком птичьим,
И снова шорох моря нем.
А мы ушли в косноязычье
Филологических проблем.
Вопрос был в том, вздымать ли корни
Иль можно так же суффикс гнуть.
И Велимир, быка упорней,
Тянулся в звуковую муть.
Ч — череп, чаша, черевики.
В — ветер, вьюга, верея.
Вмещался зверь и ум великий
В его лохматые края.
Заря лимонно-рыжим шелком
Над бархатной вспахнулась тьмой,
Когда в луче он скрылся колком,
Все рассказав — и все ж немой.
И лист его, в былом пожухлый,
Передо мной давно лежит.
Круглеют бисерные буквы
И сумрачные чертежи.
Урус-дервиш, поэт-бродяга
По странам мысли и земли!
Как без тебя в поэтах наго!
Как нагло звук твой расплели!
Ты умер смертью всех бездомных.
Ты, предземшара, в шар свой взят.
И клочья дум твоих огромных,
Как листья, по свету летят.
Но почему не быть в изъяне!
Когда-нибудь в будой людьбе
Родятся всё же будетляне
И возвратят тебя в себе.
1925, Москва
Ты был мне сыном. Нет, не другом.
И ты покинул отчий дом,
Чтоб кончить жизнь пустым испугом
Перед весенним в реках льдом.
Ты выпил все, что было в доме,
И старый мед и древний яд,
Струя запутанный в соломе,
Улыбчивый и хитрый взгляд.
И я бездумно любовался
Твоей веселою весной
И без тревоги расставался
С тобой над самой крутизной.
А под горой, в реке, в теснинах,
Уже вставали дыбом льды,
Отец с винтовкой шел на сына,
Под пули внуков шли деды.
Былое падало в овраги,
И будущее в жизнь рвалось.
На мир надежды и отваги
Враги накаливали злость.
И разгорался бой упорный,
Винтовка приросла к рукам.
А ты скитался, беспризорный,
По заунывным кабакам.
Ты лебедем из грязи к славе
Рванулся дерзко. И повис.
Ты навсегда мой дом оставил,
И в нем другие родились.
Река несла под крутизною
Испуганный ребячий труп.
Ладонь обуглилась от зноя,
Сломались брови на ветру.
1927
В какой-то щели Госиздата,
Средь вороха бумажных дел,
Я повстречал такого брата,
Каких по крови не имел.
Он обласкал огромным взглядом,
Обмолвясь: «Только не кури!»
И вдруг в беседе, близко, рядом,
Я увидал крыло зари —
Той, что, бесстрашием вскипая,
Гнала в пустыню Иргаша,
Той, для которой пал Чапаев,
Той, что до солнца хороша.
И часто после, неутомно
По лестницам стихи влача,
Я в маске труженика скромной
Лицо героя различал.
И сплелся я лучом незримым
С улыбкою его зари,
Когда о книгах, о любимых,
Со мной он грустно говорил:
Что вот нельзя. Что много дела.
А то бы сколько написал…
И вдруг — могила мхом одела
Бессмертной бури голоса.
1927