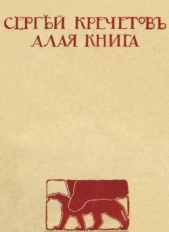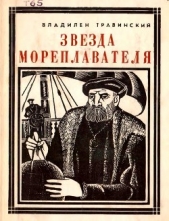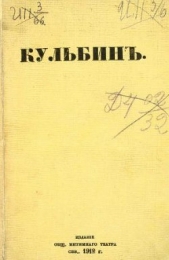2. «Вчера, на вьюге, средь жемчужной…»
Вчера, на вьюге, средь жемчужной
Снежинок радостной возни,
С улыбкой нежной и недужной
Со мною рядом он возник.
Все та же русская дорога
Ухабами вздымала даль.
Ямщик над клячей злился: «Трогай!»
И взвизгивали провода.
Метели пьяная охапка
В ногах крутилась колесом.
Его барашковая шапка,
Чуть сдвинутая на висок.
Перчатки, поступь, голос, облик —
Всё, всё как прежде, как всегда.
И только взор лучами облил,
Каких я в жизни не видал.
Обычное рукопожатье,
Литературный разговор.
«Опять предательствуют братья
И критики стрекочут вздор».
Лудили острые пылинки
Околыш шапки в серебро.
«Ну, как понравились поминки?»
«Могила славе нашей впрок».
«Ты знаешь, переводит турок
Мамед Эмин твои стихи».
— «Да, но у нас литература
Еще в плену годов глухих».
«Но знаешь ты, что зреют зерна,
Тобой посеянные в нас,
И песней новой и просторной
В стихах провеяла весна?»
«Всегда ты прытким оптимистом
Был…» Вихрем взвизгнула метель.
И он прислушался лучисто,
Что спела вьюжная свирель.
И недопетых песен гнетом
Болезненно нагрузнул лоб.
А в голос бури, к снежным нотам,
Звучанье солнца протекло.
Полночный вихрь в лицо летел нам,
Но пламя чудилось за ним.
К кремлевским подошли мы стенам,
К могилам мертвых ледяным.
Он шапку снял. «Прощай. Пора мне».
Сжег губы братский поцелуй.
И за высоким черным камнем
Укрылся в снеговую мглу.
И тотчас от реки зарею,
Ручьями, солнцем, синевой
Забунтовало под горою
Весны внезапной торжество.
И поднялось, и налетело
Счастливей звезд, страшнее сна,
Как будто дух свой, песню, тело
Всё отдал он, любимый, нам.
1923, Москва
Ушел. И песня недопета.
И улыбаешься в земле
Улыбкой мудрою скелета
Сгоревших грез седой золе.
И мучит мозг воспоминанье:
«Кресты». Угрюмый каземат.
Ключа в большом замке бряцанье
И рядом ты, нежданный брат.
Ты в триста восемьдесят пятой,
Я по соседству был в шестой.
Но пламя юности распятой
Тюрьму взрывало красотой.
Всю ночь сквозь стенку разговоры
С кувшином-рупором в руке,
Под шаг тюремщика нескорый,
Под взором каменным в глазке.
Потом проклятою дорожкой
Прогулка будто на цепи.
Два слова, брошенных сторожко,
И очи — как цветы в степи.
Ты был бездумный и веселый,
Как звон весеннего дождя,
И маловишерские села
Тебя любили, как вождя.
Барахтались мы вместе в лапах
Литературных пауков
И Волхова мятежный запах
Ловили вместе буйством слов.
Бывало, вместе голодали
И вместе пели за вином…
Как безнадежны эти дали,
Где ты пустым окован сном!
Какая боль, что в этом счастье,
В грозе восторга, в песне сил,
В творящем нашем советвластье
Ты далеко в лесу могил.
<1920>
На львов в агатной Абиссинии,
На немцев в каиновой войне
Ты шел, глаза холодно-синие,
Всегда вперед, и в зной и в снег.
В Китай стремился, в Полинезию,
Тигрицу-жизнь хватал живьем.
Но обескровливал поэзию
Стальным рассудка лезвием.
Любой пленялся авантюрою,
Салонный быт едва терпел.
Но над несбыточной цезурою
Математически корпел.
Тесня полет Пегаса русого,
Был трезвым даже в забытье
И разрывал в пустынях Брюсова
Камеи древние Готье.
К вершине шел и рай указывал,
Где первозданный жил Адам, —
Но под обложкой лупоглазого
Журнала петербургских дам.
Когда же в городе огромнутом
Всечеловеческий встал бунт, —
Скитался по холодным комнатам,
Бурча, что хлеба только фунт.
И ничего под гневным заревом
Не уловил, не уследил.
Лишь о возмездье поговаривал,
Да перевод переводил.
И стал, слепец, врагом восстания.
Спокойно смерть к себе позвал.
В мозгу синела Океания
И пела белая Москва.
Конец поэмы недочисленной
Узнал ли ты в стенах глухих?
Что понял в гибели бессмысленной?
Какие вымыслил стихи?
О, как же мог твой чистый пламенник
В песках погаснуть золотых?
Ты не узнал живого знамени
С Парнасской мертвой высоты.
1921