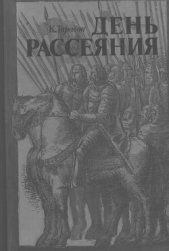Разные лица войны (повести, стихи, дневники)

Разные лица войны (повести, стихи, дневники) читать книгу онлайн
Перед вами уникальная книга, составленная из четырех блоков: дневники, повести и стихи, связанные общим временем и местом действия. Многие детали дневников находят осмысление в повестях, многие стихи оттеняют или выявляют подоплеку описанных в прозе событий. Пятый блок, «Сталин и война», подводит итог многолетним размышлениям К.М.Симонова о Сталине и его роли в огромном механизме великой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он подтянул пояс на полушубке и взял из кабины автомат.
– Если через два часа не вернусь – летите не дожидаясь, значит, немцы застукали. А будете ждать, и до вас доберутся. – Он улыбнулся с трудом, как показалось Лопатину, и, повесив на шею автомат, пошел, увязая в глубоком снегу.
Вернулся Тихомирнов через полтора часа. Видневшаяся вдали деревня называлась Подгорная, летчик сразу же нашел ее на карте. До Тулы было семьдесят километров, бензину вполне хватало. Жители рассказывали, что еще утром через деревню прошел отряд человек в сто немцев – половина обмороженных.
– Сравнительно повезло, – сказал Тихомирнов. – Могли сесть и хуже. Ничего не поделаешь, вернемся в Тулу. – И добавил, не заботясь о том, слышит или не слышит его летчик: – Не люблю растяп. Можно б попробовать дотянуть и до Калуги, но с этим боюсь!
И ему и Лопатину показалось, что все неудачи дня уже позади, но не тут-то было. Самолет стоял на лыжах, а на поляне лежал глубокий снег. Как ни форсировал летчик мотор, самолет буксовал и не трогался с места, а кругом как назло не было ни души, чтоб помочь. Тихомирнов ругал себя за то, что не взял из деревни мальчишек, просившихся дойти с ним до самолета. Промаявшись минут десять, решили как-нибудь выходить из положения: летчик остался в кабине, а Лопатин и Тихомирнов вылезли на снег и стали раскачивать самолет за крылья. В конце концов, самолет двинулся, но сразу так быстро, что они не успели на ходу вскочить в него. Летчик проехал пятьдесят метров, развернул самолет и снова стал. Так повторялось раз за разом: если летчик брал с места медленно – самолет останавливался и застревал в снегу, а если брал быстро – Лопатин и Тихомирнов не успевали в него вскочить.
– Давай снимем полушубки, – сказал Тихомирнов. – Может, так легче вскочим.
Они засунули полушубки в кабину и, подперев спинами крылья самолета, стали раскачивать его. На этот раз, когда самолет сдвинулся, они успели догнать его, вскочить на крылья и, когда он уже взлетал, ввалиться в свои кабины. С Лопатина градом лил пот. Он отдышался уже у самой Тулы, возле которой они сели в полной темноте, чуть не обрубив при посадке телеграфные провода.
Вернувшись в Тулу, они пошли прямо в штаб и там узнали, что из утренних шести самолетов их был первым, благополучно вернувшимся. Один свалился на лес недалеко от аэродрома, и летчик и офицер связи сильно побились. Второй – с корреспондентами – сел на вынужденную, и корреспонденты звонили, что добираются обратно попутными средствами. Об остальных ничего не было известно, очевидно, тоже заблудились в снегопаде и где-то сели... Пока Тихомирнов выяснял все это у адъютанта Постникова, в комнату быстро вошел маленький человек в громадном, обсыпанном снегом полушубке. У него было красное лицо и заиндевевшие брови; щурясь от яркого света, он вытирал их багровой обмороженной рукой.
– Был? – вставая за своим канцелярским столом, спросил адъютант Постникова.
– Был! – радостно ответил человек в полушубке. – Бои на улицах. Прямо на окраину приземлился.
– Значит, поздравляю с Красным Знаменем! У командующего слово твердое, раз был – значит, все!
– Начальник штаба у себя? – не отвечая, спросил человек в полушубке.
– У себя, проходи, – ответил адъютант.
Человек в полушубке, тяжело переступая ногами в заснеженных валенках, скрылся в дверях кабинета.
Это и был тот самый несгораемый капитан Арапов, который снова благополучно вернулся, на этот раз из самой Калуги.
– Ты иди отдыхай, а мне его придется подождать, – сказал Тихомирнов Лопатину. – Надо дать в редакцию телеграмму, может, расскажет что-нибудь интересное. Вот, черт, добрался все-таки!
Лопатин один вернулся в комнату Тихомирнова, лег на кровать и только теперь почувствовал, что не может ни согнуться, ни разогнуться – кажется, он надорвался, ворочая самолет. В животе была такая боль, словно все кишки одну за другой перерезали тупым ножом.
«Ничего себе, поездка!» – сердито подумал Лопатин и вдруг пожалел, что не остался в Москве. До сих пор, вспоминая о жене, он думал о своем отъезде без сожаления – будь что будет! – а сейчас ему опять бессмысленно показалось, что еще что-то можно поправить, хотя он сам не мог бы себе ответить, что поправить, как поправить и, главное, стоит ли поправлять? Он просто-напросто малодушно хотел видеть жену. Вот и все.
Тихомирнов вернулся через час вдвоем с неожиданно приехавшим из Москвы Гурским. Этот рыжий заика, живший в редакции на казарменном положении в одной комнате с Лопатиным, несмотря на то что он был не военнослужащий, а вольнонаемный, то и дело выпрашивался у редактора на фронт. Значит, все-таки выпросился сюда, под Калугу!
– П-прибыл в качестве резерва главного командования, – с порога сказал Гурский, протирая платком свои толстые очки. – Б-буду вместо тебя брать Калугу.
– Почему вместо меня?
– А т-тебя вызывает редактор. Как всегда, срочно, немедленно, аллюр т-три креста!
– А почему?
– Н-не знаю! Хотел п-поставить его по команде «смирно» и спросить, но потом вспомнил, что он д-дивизионный комиссар, а я ряд-довой необ-бученный, и раздумал.
– Ты сегодня поедешь? – спросил Тихомирнов Лопатина. – Если на его машине, – кивнул он на Гурского, – то она сейчас в гараже. Будет готова через два часа.
– Врет, – сказал Гурский. – П-послал мою машину куда-нибудь за п-продуктами и водкой. Я его знаю...
– В общем, будет через два часа, – не подтверждая и не опровергая слова Гурского, сказал Тихомирнов. – Все-таки вы, черти, аристократы, – сказал он, обращаясь одновременно и к Лопатину и к Гурскому, – когда какую-нибудь деревню Пупкино брать, для этого мы постоянные, а как Калугу, так одного за другим гастролеров присылают.
– А ты н-не жалуйся, – сказал Гурский. – Во-первых, у тебя, по моим сведениям, в Туле уже есть красивая баба...
– Предположение, не подтвержденное фактами!
– А что ты отпираешься, ты же холостой! И вообще в-везде как сыр в масле катаешься!
– Вот не дам тебе водки, тогда будешь знать, как со мной разговаривать! – сказал Тихомирнов.
– На т-такую к-крупную подлость ты не способен.
– Значит, через два часа будет машина? – прервал их Лопатин.
– К трем ночи доберешься, – сказал Тихомирнов. – А то, может, до утра останешься?
– Раз ехать, поеду сегодня, – сказал Лопатин, снова подумав о жене.
Через час, когда старушка – хозяйка дома поджарила им толстую деревенскую яичницу, а Тихомирнов, вопреки угрозам, поставил на стол бутылку сырца, в комнату ввалилось еще двое корреспондентов, те самые, что сели на вынужденную и добирались попутными средствами. Один из них был до невозможности неразговорчивый и этим непохожий на всех остальных фотокорреспондентов, фотограф Хлебников из «Правды», а другой был специалист по передовицам, красивый, крупный, бровастый мужчина по фамилии Туликов. В Москве он сидел всю оборону безотлучно, но на фронт из редакции своей московской газеты вырвался, кажется, всего во второй раз и, в противоположность видавшему виды Хлебникову, прямо-таки задыхался от желания поскорее выложить все события сегодняшнего дня. Он был одновременно и заносчив и простодушен, и, когда за столом зашел разговор об уехавших в эвакуацию и оставшихся в Москве, Гурский, никогда не дававший пощады таким людям, как Туликов, сразу насмешливо прицелился в него через очки.
Туликов, который после вынужденной посадки уже выпил где-то по дороге, а придя к Тихомирнову, сразу картинно хватил чайную чашку разбавленного сырца, витийствовал за столом, громя тех, кто бежал из Москвы шестнадцатого октября. К его природной горячности и простодушию примешивалось сейчас двойное возбуждение – от пережитого и выпитого. Всех, кто уехал из Москвы, он называл «куйбышевцами» и «ташкентцами» и говорил о шестнадцатом октября так, словно в этот день между всеми уехавшими и всеми оставшимися пролегла черта всемирно-исторического значения.
– Мы им этого не забудем, – говорил он, теребя рукой свои ненатурально большие, густые, светлые брови. – Хотя, когда они благополучно вернутся, они наверняка захотят поставить все на прежние места! Сейчас они отсиживаются, но потом они захотят прийти на место тех из нас, кто погиб, и на их костях делать свою карьеру!