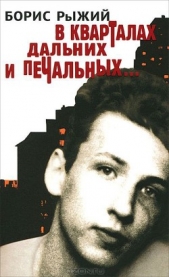Так и не понял я, что за земля ты —
добрая, злая ль.
Умные пялят в Америку взгляды,
дурни — в Израиль.
В рыжую Тору влюбиться
попробуй жалким дыханьем.
Здесь никогда и не пахло Европой —
солнце да камень.
Мертвого моря вода ядовита,
солоно лоно —
вот ведь какое ты, царство Давида
и Соломона.
Что нам, приезжим, на родину взяти
с древнего древа?
Книги, и те здесь читаются сзади,
справа налево.
Не дружелюбны и не говорливы
камни пустыни.
Зреют меж них виноград и оливы,
финики, дыни.
Это сюда, где доныне отметки
Божии зрятся,
нынешних жителей гордые предки
вышли из рабства.
Светлое чудо в лачуги под крыши
вызвали ртами,
Бога единого миру открывши,
израильтяне.
Сразу за то на них беды волнами,
в мире рассеяв,
тысячу раз убиваемый нами
род Моисеев.
Не разлюблю той земли ни молвы я,
ни солнцепека:
здесь, на земле этой, люди впервые
слышали Бога.
Я их печаль под сады разутюжу,
вместе со всеми
муки еврейские приняв на душу
здесь, в Яд-Вашеме.
Кровью замученных сердце нальется,
алое выну —
мы уничтожили лучший народ свой
наполовину.
Солнцу ли тучей затмиться, добрея,
ветру ли дунуть, —
кем бы мы были, когда б не евреи, —
страшно подумать.
Чтобы понять эту скудную землю
с травами злыми,
с верой словам Иисусовым внемлю
в Иерусалиме.
В дружбах вечерних душой веселея,
в спорах неробок,
мало протопал по этой земле я
вдумчивых тропок.
И, с Тель-Авивского аэродрома
в небо взлетая,
только одно и почувствую дома —
то, что Святая.
1992
КОГДА МЫ БЫЛИ В ЯД-ВАШЕМЕ {265}
А. Вернику
Мы были там — и слава Богу,
что нам открылась понемногу
вселенной горькая душа —
то ниспадая, то взлетая,
земля трагически-святая
у Средиземного ковша.
И мы ковшом тем причастились,
и я, как некий нечестивец,
в те волны горб свой погружал,
и тут же, невысокопарны,
грузнели финиками пальмы
и рос на клумбах цветожар…
Но люди мы неделовые,
не задержались в Тель-Авиве,
пошли мотаться налегке,
и сразу в мареве и блеске
заговорила по-библейски
земля на ихнем языке.
Она была седой и рыжей,
и небо к нам склонялось ближе,
чем где-нибудь в краях иных,
и уводило нас подальше
от мерзословия и фальши,
от патриотов и ханыг.
Все каменистей, все безводней
в ладони щурилась Господней
земля пустынь, земля святынь.
От наших глаз неотделима
холмистость Иерусалима
и огнедышащая синь.
А в сини той, белы как чайки,
домов расставленные чарки
с любовью потчуют друзей.
И встал, воздевши к небу руки,
музей скорбей еврейских — муки
нечеловеческой музей.
Прошли врата — и вот внутри мы,
и смотрим в страшные витрины
с предсмертным ужасом в очах,
как, с пеньем Тор мешая бред свой,
шло европейское еврейство
на гибель в ямах и печах.
Войдя в музей тот, в Яд-Вашем, я,
прервавши с миром отношенья,
не обвиняю темный век —
с немой молитвой жду отплаты,
ответственный и виноватый,
как перед Богом человек.
Вот что я думал в Яд-Вашеме:
я — русский помыслами всеми,
крещеньем, речью и душой,
но русской Музе не в убыток,
что я скорблю о всех убитых,
всему живому не чужой.
Есть у людей тела и души,
и есть у душ глаза и уши,
чтоб слышать весть из Божьих уст.
Когда мы были в Яд-Вашеме,
мы видели глазами теми,
что там с народом Иисус.
Мы точным знанием владеем,
что Он родился иудеем,
и это надо понимать.
От жар дневных ища прохлады,
над ним еврейские обряды
творила любящая Мать.
Мы это видели воочью
и не забудем днем и ночью
на тропах зримого Христа,
как шел Он с верными своими
Отца единого во имя
вплоть до Голгофского креста.
Я сердцем всем прирос к земле той,
сердцами мертвых разогретой,
а если спросите: «Зачем?» —
отвечу, с ближними не споря:
на свете нет чужого горя,
душа любая — Яд-Вашем.
Мы были там, и слава Богу,
что мы прошли по солнцепеку
земли, чье слово не мертво,
где сестры — братья Иисуса
Его любовию спасутся,
хоть и не веруют в Него.
Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен —
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся тайн
и верен ей до похорон.
1992