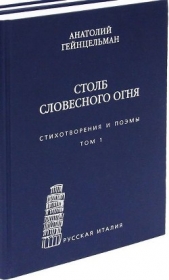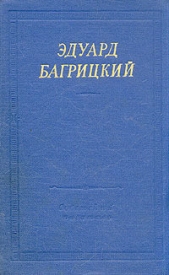На мосточке из гибких шалевок
Краснощекий стоял мальчуган.
Сколько белых нимфейных головок,
Как остер камышей ятаган!
Отражался в зыбучем сапфире
Кружевной валансьенский колет,
И стрекозки в полдневном эфире,
И коротких штанишек вельвет.
Отражалася пухлых коленок
Розоватость в стеблях ненюфар,
И в зеркалах меж ивовых стенок
На шнурках гуттаперчевый шар,
Гуттаперчевый дискос, как солнце
Пред закатом в морскую постель,
И до темного омута донца
Извивался лучей его хмель.
Вдруг, должно быть, от солнечной ласки
Гуттаперчевый лопнул пузырь,
И на месте пурпуровой сказки
Бирюзовый остался пустырь.
Мальчуган изумился, заплакал
И с мосточка куда-то ушел,
Где-то тенор подводный заквакал,
Прожужжали разведчики пчел.
Где исчезло мое отраженье
И головки моих ненюфар?
Где взвивавшийся в Божьи владенья
На шнурке гуттаперчевый шар?
В давно заброшенном курорте,
В колонии Грослибенталь,
Я полюбил и натюрморты,
И степи черноморской даль.
Был сад запущенный за домом
У нас с ирисовой каймой,
С вороньим под вечер Содомом
И галок митингом зимой.
В саду лучинная беседка
Была и сгнивший кегельбан,
Где, кровью кашляя, нередко
Отец играл со мной в волан.
Когда засыпало дорожки
Листом червонным и снежком,
И галок испещрили ножки
Цветов рабатки под окном,
И с дуба воронов парламент
Остервенело загалдел,
Отец, подрытый под фундамент,
Уже собою не владел:
Зеленоглазых, чернокрылых
Парламентарьев «Danse Macabre»
Он видеть не имел уж силы,
Хотя был духом горд и храбр;
Соседа старую двустволку
Он выпросил себе однажды, –
И желтую увидел пчелку
Я на стволах ружейных дважды,
И два громовые раската
Раздались; пять, затрепетав,
Упало воронов у ската,
На чешуей покрытый став.
Забилось у меня сердечко,
И за смеющимся папашей
Засеменил я, как овечка,
К застреленной добыче нашей.
Я поднял первого, он теплый
Был весь и трепетал крылом,
Из клюва слышалися вопли,
И кровь струилась ручейком.
И в глаз я заглянул зеленый,
Где жизни угасала зорька,
Взволнованный и изумленный,
И вдруг заплакал горько, горько.
«Чего ты плачешь, мальчик глупый? –
Спросил меня тогда отец. –
Он гадкий, вещий, ест он трупы
И нуден для больных сердец».
Сквозь слезы отвечала детка:
«Он гадкий, папа, но крылатый;
Ему не каменная клетка
Нужна, а Божие палаты.
И я хочу быть гадкий, гадкий
И трупы кушать вместо лилий,
Но вместо крашеной лошадки
Иметь вороньих пару крылий!»
Отец сказал: «Ты странный мальчик!»
И, кашляя, пошел домой;
В снегу омыл кровавый пальчик
Сынок безмолвный и немой.
Убогая комната в синих цветочках,
Глазетовый беленький гроб,
Вокруг гиацинты в пурпурных горшочках,
Чуть слышен гниенья микроб.
Кузены в мундирчиках подле окошка
Мамашин едят шоколад,
Она же, спокойная белая крошка,
На новый настроена лад.
Лежит она тихо с оранжем из воска
На темных, тяжелых кудрях,
Как девочки маленькой грудь ее плоска
И ручки ныряют в шелках.
И в белых ботиночках детские ножки
Наивно из кружев глядят,
Как будто о жизни терновой дорожке
Они вспоминать не хотят.
И маленький мальчик в мундире зеленом
Глядит в этот маленький гроб
И, что-то с вопросом шепча напряженным,
Ручонкой схватился за гроб.
Затем к гиацинтам придвинул он пряным
Высокий обеденный стул
И с сердцем замершим почти бездыханным
В лицо отошедшей взглянул.
В лицо, где вчера еще очи Христовы
Он видел на смертном кресте,
Где страшный румянец горел пурпуровый
И ужас на каждой черте.
Но чудо свершилось – и нет и подобья
Того, что он видел вчера,
И Ангел Луки перед ним делла Роббья
Глядел из лебяжья пера,
Из крыльев на шелковой гроба подкладке,
Незримых, но зримых ему,
И лик ее детский, невинный и сладкий
В алмазов был вставлен кайму,
Как лики святых в византийской иконе,
И мрамора был он нежней
И тучек жемчужных в ночном небосклоне
Приветливей и веселей.
И мальчик в ответ улыбнулся мамаше
И слезки утер рукавом.
– Зачем же мне плакать. Скажу тете Маше
Об Ангеле-маме моем.
С тех пор не могли ему люди проказу
Служения плоти привить, –
И духа его не свернулась ни разу
В лазурь устремленная нить.