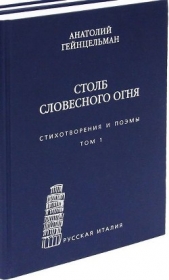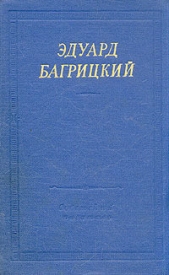У дельты сонного Бугаза
Ленив латунноводный Днестр,
И августовского экстаза
Исполнен солнечный оркестр.
Средь мерно шелестящих Шабо
Спит острошпажных камышей,
И гроздь, колышимая слабо,
Как малахитовый камей,
Обвилася вокруг веранды
Ее швейцарско-швабских ферм,
Но неуклюжие шаланды,
Днестра янтарных эпидерм
Едва касаясь, больше манят
Трехлетку в бархатном костюме,
Что, арабеской килей занят,
Ребяческой отдался думе.
Над ним запыленных акаций
Дождя алкающий шатер,
За ним Кановы томных граций
Из алебастра мертвый взор.
В душе воробушка щебечет
Его невинный целый день:
Познанья в нем угрюмый кречет
Не описал немую тень.
И мотылек в ней и стрекозы,
Лягушек заревой концерт
И чайные открыли розы
Природы радужный конверт.
Конверт, в котором сам недавно,
Как аллилуйно чистый звук,
Куда-то он струился плавно,
Пока из материнских рук
Божественным комочком нервов
В сподвижничества старый мир
Он в воплощеньи уж не первом
Явился в Божий монастырь.
Как личика его прелестен
Нераспустившийся бутон,
Как много бессловесных песен
Лазури голубой фестон
Ему уже сказал без цели
И шаловливо и легко,
Как Пана сонные свирели
Ласкают нежное ушко!
Но пошлость и людская злоба
Его впервые сторожат
И, притаившись, смотрят в оба,
Как на беспризорных княжат
Завистливый и обойденный
Престола жадный претендент.
Вот жала кончик раздвоенный,
Вот и чешуйчатый сегмент –
Змеи, которую сегодня
Подвыпившим мастеровым
Зачем-то обернули сводни
Со смехом старческим и злым.
Качаясь, пыльною дорожкой
Он шел чрез сжатые поля
И в такт с задорною гармошкой
Писал ногами вензеля.
Но, заприметив мальчугана,
Мать помянул зачем-то вдруг
И взвизгнул хрипло и погано,
Как ржавый плотничий терпуг.
И тению своей громадной
Покрыл дитя, как нетопырь.
«Ишь ты какой малец нарядный!
Ты чей же будешь-то, пузырь?»
Ребенок удивленно глазки
Поднял, мечтавшие дотоль,
И, вместо зефировой сказки,
Дохнул в них пьяный алкоголь –
Из рта, кишевшего словами
Познанья истины плотской,
И на костюмчик с кружевами
Легла мозолистой рукой
Чужая низменная воля.
И, как пугливое агня,
Он крикнул: «Я мамашин Толя,
Я маленький, оставь меня!»
«А это что же на цепочке
Тут у тебя висит, малыш?»
«Ах, это Боженькин Сыночек,
Создавший небо и камыш…»
Но пятипалою клешнею
Тот вытянул горячий крест,
Сверкнувший золотой струею
Глубоко в камыши окрест.
И, красный весь от озлобленья,
Крест оторвал негодный брат, –
На горлышке ребенка звенья
Кровавый провели стигмат.
И горько плачущий малютка,
Пораненный сжимая пестик,
Кричал, как раненая утка:
«Отдай скорей! Отдай мой крестик!»
Увы, за крайние избушки
Злодей подвыпивший исчез,
И только добрые лягушки
Заквакали в недвижный кресс.
Колесный пароход «Тургенев»
Червонный обогнул Бугаз
И в жемчужной зарылся пене,
Взметая крыльями топаз.
В груди у старика машины
Погибшего пирокорвета,
Но мачт убогие вершины
Не видели другого света,
И тело шаткое из плеса
Не выходило в океан,
Как маятник, он из Одессы
Качался в сонный Аккерман.
С тех пор, как я себя запомню,
Его две черные трубы
Сурьмили моря глаз огромный,
Скользя вдоль охристой губы.
Как тяжело ему мористо,
Освобождая кожухи
Из волн, разрезывать мониста
У красной гирловой вехи!
Как тяжело ему бороться
С объятьем голубых ундин,
Как пьяного кораблеводца
Хрипят проклятья у машин!
Кричат испуганные куры,
Визжат в корзинах поросята,
Рыгают бабы в амбразуры
И плачут жалобно ребята.
И пахнет маслом, пахнет солью,
Камбузом, ворванью и луком,
И желтой пахнет канифолью,
Гармошка тренькает над ухом.
Но за громыхающей цепью
Штурвала с капитанской рубки,
Над моря голубою степью,
Ундин жемчуговые губки
Полны такого сладострастья,
Такой прозрачно-синей ласки,
Что все недуги и ненастья,
Всю пошлость претворяют в сказки.
На белолаковой скамейке
Сидела дама под вуалью,
И рядом, как листочек клейкий,
Завороженный синей далью,
Прижавшись к ней холодной щечкой,
Сидел здоровенький мальчонок,
Играя золотой цепочкой
Ее извивами ручонок.
И страх восторженный с вопросом
В глазенках радостных сиял:
«Я буду, мамочка, матросом,
Я смело стану за штурвал.
Но только беленьким кораблик
Мой будет, мамочка, как тучки;
И пушки будут там и сабли,
И никого не пустят ручки
Мои туда! Тебя лишь, мама,
Возьму с собою я и папу,
И полетим мы прямо, прямо…
Купи мне с ленточками шляпу!»
Смеялась мать, смеялся пьяный
С пунцовым носом капитан,
А белых чаек караваны
Слагали жалостный пеан.
Но всё разнузданней ундины
Вели веселый хоровод,
Всё глубже в синие куртины
Врывался носом пароход.
И жемчужные рукавицы
Уже хватались за перила,
И палубные половицы
Волна прозрачная покрыла
И языком журчащим звонко
В головку вдруг поцеловала
И в ручки милого мальчонка,
Влюбленного в звезду штурвала.
И в крошечные он ладошки
Захлопал смело: «Я, мамуся,
Не испугался ведь ни крошки,
Ни крошки ведь. Я не боюся!»
Но испугалась не на шутку
Мамуся солнечного крошки,
И капитан в свою каютку
Повел их мокренькие ножки
Сушить мохнатым полотенцем.
И тихо, улыбаясь в слезы,
Она над голеньким коленцем
Такие бормотала грезы:
«С лазурным обручился морем
Ты спозаранку, мой соколик,
С вселенским обручишься горем
Ты завтра также, бедный Толик,
Но пусть лазоревым страданье
Твоя изобразит псалтырь,
Пусть ты оставишь с ликованьем
Угрюмый Божий монастырь!»
Так пела мать моя, наверно,
Снимая мокрые чулочки, –
И чайки проносились мерно
Над головою у сыночка.