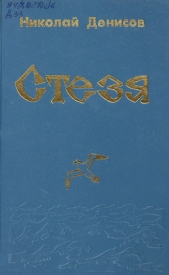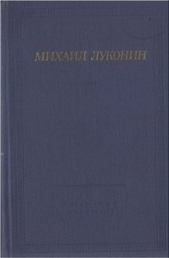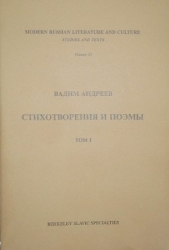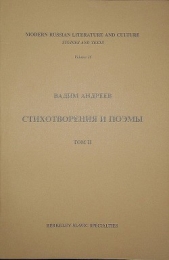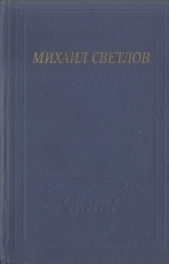С теплой грустью есенинских кленов,
С русской думой о днях золотых,
Все прошел я: шторма и циклоны,
Принимая, как должное, их.
Жили рядом светло и согласно
Деревеньки мои, города.
Жили разно, не то, чтобы праздно,
Но без света в душе – никогда.
Не обидел родную сторонку,
Воспевал. И прославил, как мог.
Что же нынче так лает вдогонку
Чья-то шавка? Суди ее Бог!
Лают давки у винных лавчонок,
Лает рэкет. Спасения нет?!
Больше всех беспардонных сучонок
Развелось в подворотнях газет.
Коль в душе ни таланта, ни Бога,
Коль от злобы в глазах зелено,
Пусть потешатся бранью и склокой,
Высоко им парить не дано.
Выйдет срок... Приплывут бригантины,
Вспыхнет снова – по курсу – звезда..
Кто там с визгом вцепился в штанину?
Наступлю ведь... Ну, право, беда!
1990
У Кольки Чекунова все при месте:
Обширный двор с постройками – поместье! –
По нынешним-то скудным временам.
Есть две машины «Нива», «Жигуленок»,
В хлевушке народившийся теленок,
Ну, словом, поживает: я те дам!
«Сначала в баню» – веничек зеленый
Несет хозяин. И, как две иконы,
Мы восседаем чинно на полке.
Над банной крышей звезды и кометы –
Предмет любви не нынешних поэтов,
А тех, старинных, – в школьном далеке.
По всем частям – по косточкам и в целом
Чугунный жар злодействует над телом,
Экватору и тропикам – родня.
И мы к воде скользим, к холодной, ниже,
И ковш-другой – сибирский наш «кондишен»,
Враз остужают Кольку и меня.
Вновь русский дух в нас, радостный и стойкий
А в доме телек врет о перестройке,
Настали же смурные времена!
Но Кольке – что? Он банно-кумачовый,
Махнув рукой на байки Горбачева,
К столу торопит: «Водки иль вина»?
«Ну как сказать!» – томлюсь неловкой ролью
«Да ты взгляни! – он мигом нырь в подполье, –
Сухое, спирт, коньяк «Наполеон»...
И впрямь, таких я сочных этикеток
Не видел столько постных пятилеток,
Считай, еще с добрежневских времен.
«Что ж, – говорю, – сейчас дерябнуть стоит,
Как детям культа, пленникам застоя,
И, коль страна до гласности дошла,
Мы выпьем, чтоб начальство не чудило
Над мужиком с «ухватистою силой»,
Не притесняло русского села.
«Как уцелел ты? Ведь такие годы...»
Смеется Колька: «Были и погоды...»
А мне своя привиделась стезя:
Сплошной галоп за книжками, за славой,
Едва поспеешь, – окрик литоравы:
«Погодь за дверью, – занято. Нельзя!»
Ну, повидал Америку, Европу,
Ну, по морям тропическим протопал,
Но не взрастил телка и порося,
Не сдал – где взять? – ни литра и ни грамма,
В счет этой продовольственной программы,
Для тружеников фабрик молока.
У Кольки Чекунова все при деле:
Сейчас придет с вечерней дойки Неля
И ребятишки-школьники – вот-вот.
А я в гостях сижу залетной птицей,
Ну, сочиню печальную страницу...
Да нет, шалишь, совсем наоборот!
Стезя – стезей... А радоваться надо:
Вот лунным светом залита ограда
И теплый свет искрится у окон.
Мы были с Колькой други высшей марки.
И вот впервые пьем по честной чарке.
«Ну доставай там свой «Наполеон»!»
1990
Ах, грустно! Ах, улетели журавли, барин!
И. А. Бунин
Журавли улетели... Ах, барин, они улетели!
Ах, Иван Алексеич... Какая пора на дворе?
То ль покойники с косами встали и вновь околели,
То ли белые с красными рубятся в кровь на заре?
И заря умерла... Только Маркса усмешка густая –
Над планетой, над Русью, как банный, как фиговый лист.
Журавли улетели. Небесная чаша пустая.
Самолеты не в счет, ненавижу их дьявольский свист.
Бабье лето еще... Паутина летит из Парижа –
Невесома, как всюду, плывет с Елисейских полей:
Поэтический трон иль живая деталь для престижа?
Это подан мне знак: проводили и там журавлей!
Так бывало и раньше. Но так вот угрюмо и люто
Не болела душа, не мрачнели стога на лугу.
Силы зла торжествуют. Вселенская тешится смута.
Журавли... Слышишь, барин?.. Я плачу, прости, не могу...
1990
Среди вождишек и божков,
На спешной их перехоронке,
Он предсовмина Маленков,
Как бы в особицу, в сторонке.
Пальто осадистой длины,
Фигура крупная, литая.
Проходит – парусом штаны
Летят, брусчатку подметая.
Он в годы сумеречных слез
И всеколхозного терпенья
Скостил налоги и всерьез
Сулил другие послабленья.
Он дал Лаврентию пинка,
Но не прижился на престоле,
Успев уважить мужика,
Он как бы сгинул в чистом поле.
Вот говорят: свой век дожил
Он под простой, негромкой крышей,
Он был Георгием, он – был!..
А кто же эти – Боря с Мишей?
1991