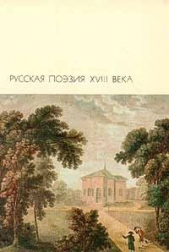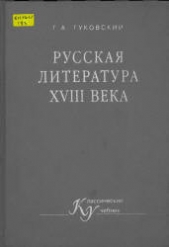О муза! умились теперь ты надо мною,
Расстанься хоть на час с превыспренней страною;
Накинь мантилию, насунь ты башмаки,
Восстани и ко мне на помощь притеки.
Не школьник у тебя об этом просит спасский [585],
Но требует ее себе певец парнасский,
Который завсегда с тобой в союзе жил
И со усердием сестрам твоим служил.
И се я слышу глас с ее высока трона:
«Послала я к тебе давно уже Скаррона;
Итак, не льстись теперь на помощь ты мою,
Я битву Чесмскую с Херасковым пою [586]:
Он, мною восприняв настроенную лиру,
Гласит преславную сию победу миру;
Я ныне действую сама его пером,
И из-под рук его исходит важный гром;
Но ежели и ты сим жаром воспылаешь
И петь оружие России пожелаешь,
Тогда сама к тебе на помощь притеку
И всех подвижников деянья изреку».
О муза! лишь всели ты жар в меня сердечный,
Прейдет через меня то в роды бесконечны.
Приди и ободри охоту ты мою,
Тогда на лире я песнь нову воспою.
А ныне паки я гудочек мой приемлю,
И паки голосу певца Скаррона внемлю;
Уже он мысль мою вослед себе влечет,
Уже и слог его здесь паки потечет.
Лишь только Елисей до погреба доскребся,
Уже он заживо в могиле сей погребся;
Хотя и заперт был он павловским замко́м [587],
Но он его сразил с пробоев кулаком
И смелою рукой решетку отворяет,
Нисходит в хлябь сию, и тамо озирает.
Расставленны везде бочонки по стенам,
Там склянки видит он, бутылки видит там,
Он видит бочки там с вином сороковые,
Любуется, узря предметы таковые,
Летает, как сокол над стадом робких птиц,
Он видит лебедей, и галок, и синиц.
Лишь к первой он тогда бутылке прилетает,
Уж первую ее в объятия хватает,
Как глазом мгнуть, так он затычку ототкнул
И в три глотка сию он пташку проглонул;
Потом придвинулся к большой он самой бочке,
Откупорил и рот приставил к средней точке,
Из коея вино текло ему в гортань.
Елесенька, уймись, опомнись, перестань;
Ведь бочка не мала, тебя с нее раздует.
Но он сосет, речей как будто и не чует.
Он после сказывал, и если он не лгал,
Что будто бы ему сам Вакх в том помогал,
Который со своей тут свитою явился
И обще с ним над сей работою трудился;
Что будто сам Силен бутылки оттыкал,
И будто сам из них вино в себя глотал;
Что духи Вакховы мертвецки были пьяни,
Кормилица и все вино тянули няни.
Какой тогда всему был погребу разгром,
Клокочут скляницы, бутылки все вверх дном,
Трещат все обручи, вино из бочек льется,
И в них ни капельки его не остается.
Уже окончен был преславный этот труд;
Ушли из погреба, оставя винный пруд.
А откупщик, сего не ведая разгрома,
Покоится среди разграбленного дома;
Но только лишь с своей постели он восстал,
Работника, как пса, к себе он присвистал
И тотчас оного к старухе посылает,
С которой гнать чертей вон из дома желает;
Такая-то ему пришла на мысли пыль [588]!
Уже сия идет, опершись на костыль,
Имея при себе бобы, коренья, травы
И многие при том волшебные приправы.
Громовы стрелки тут, иссохлы пауки,
Тут пальцы чертовы, свято́шны угольки,
Которых у нее в мешке с собой немало;
И в сем-то знанье сей Медеи состояло.
Лишь только в дом она ступила чрез порог,
Повергла на скамье чиненой свой пирог,
В котором были все волшебные приборы,
Бобы и прочие тому подобны вздоры.
Уже мой откупщик навстречу к ней течет,
И с благочинием он бабушке речет:
«Помилуй, бабушка! на нынешней неделе
Всем домом у меня здесь черти овладели;
Вчера меня один из бани выгнал вон,
Другой нанес жене ужасный самый сон,
Сие случилося прошедшей самой ночи,
Помилуй ты меня, а мне не стало мочи!»
Лишь он сие изрек, ан ключник прибежал,
Который был в слезах и с ужаса дрожал:
О бывшей в погребе беде ему доносит.
Купец, рехнувшися, попа в безумстве просит,
Дабы ему в своих грехах не умереть
И вечно во огне гееннском не гореть.
О подлая душа! к чему ты приступаешь?
И сею ли ценой ты небо покупаешь?
Когда обиженны тобою сироты
На оное гласят, чтоб был во аде ты.
Такое ли тебе довлеет покаянье?
Да будет ад твой дом и мука воздаянье.
Сперва обиженным ты щедро заплати
И после прямо в рай на крыльях тех лети,
Которые туда честны́х людей возносят,
А на тебя тобой обиженные просят.
Но наконец его оставил смертный страх,
Опомнился купец у бабушки в руках
И просит, чтоб она ему поворожила,
Откуда истекла сих бед ужасна жила.
Старушка говорит на то ему в ответ:
«О дитятко мое! лихих людей не нет;
Я знаю, что тебе злодеи то помстили
И это на тебя по ветру напустили:
Я всё тебе сие на деле покажу,
Бобами разведу, и это отхожу;
Не станут больше здесь водиться в доме черти;
Я выгоню их вон иль всех побью до смерти.
Третье́ва дни меня просил один рифмач,
Дабы я испекла такой ему калач,
Который бы отшиб к стихам ему охоту;
И я с успехом ту исполнила работу:
Лишь только он рожок в желудок пропустил,
С рожком свою к стихам охоту проглотил,
И ныне больше сим дурачеством не дышит,
Хотя не щегольски ж, да прозою он пишет.
О, если бы сему подобны рифмачи
Почаще кушали такие калачи,
Конечно б, петь стихи охоту потеряли
И слуха нежного других не оскорбляли.
Другой меня просил, чтоб был он стиходей, —
Он съел лишь корешок по милости моей,
С тех пор спознался он и с небом вдруг, и с адом
И пишет множество стихов, дурным лишь складом,
Однако ж кажется хорошим для него;
Мне это сотворить не стоит ничего.
Пропажа ли в дому какая где случится,
Иль старый вздумает за девкой волочиться, —
Не празден никогда бывал еще мой труд.
Купцы, подьячие со всех сторон бредут:
Одни, что будут ли на их товары падки,
Другие — выйдет ли указ, чтоб брать им взятки;
Я всем с охотою бобами развожу
И никому из них неправду не скажу.
Вчерась лишь одному врачу я отгадала,
Что скоро свет его почтет за коновала;
То предвещание немедленно сбылось,
Сегодня в городе повсюду разнеслось,
Что от лечбы его большая людям трата, —
И так он сделался палач из Иппократа.
А если пьяница, хотя бы он какой,
Я страсть с него сию снимаю как рукой!»
Тут всю свою болезнь купец позабывает
И речь старушкину своею прерывает:
«Помилуй, бабушка, не делай ты сего,
Чрез это есть ущерб дохода моего,
И эдак откупы мне будет брать несходно;
А вот бы для меня что было лишь угодно:
Чтоб пьяницами весь соделался народ,
Чрез то ты сделаешь великий мне доход».
Тут бабушка ему: «Я это разумею,
Но делать, дитятко, я худо не умею».
На то ей откупщик: «Так слушай же, мой свет,
Не надобен такой мне вредный твой совет,
Когда пияниц ты от пьянства отвращаешь,
Так сим против меня ты чернь всю возмущаешь.
А мне лишь надобно, чтоб больше шло вина,
Так мне твоя теперь и помощь не нужна,
Не верю, как тебе, я бахарю такому;
Возьми свои бобы и ну скоряй из дому,
Доколе я тебя бато́жьем не взварил».
Се тако откупщик во гневе говорил,
А та, как ласточка, из дому полетела
И множество чертей наслать к нему хотела,
Которые к нему, как галки, налетят
И весь его припас и выпьют и съедят,
За что купец велел нагреть старухе уши.
Се так поссорились тогда две подлы души!
Когда уже ямщик сей дом вина лишил,
Ушел и погреба другие пустошил,
Тогда Зевес другим богам сие вещает:
«Вы зрите, как ямщик купцов опустошает,
И если я теперь им помощи не дам,
Так сильного руке бессильных я предам;
Вещайте вы: что мне творить бы с ним довлело?»
Тут всё собрание, как море, восшумело,
И шум сей был меж их поболее часа,
Потом ударились все в разны голоса;
Однако ж все они хоть разно рассуждали,
Но все его за то согласно осуждали.
Тогда отец богов сию предпринял речь:
«По-вашему, его, я вижу, должно сжечь;
Но я не соглашусь казнить его столь строго,
Понеже шалунов таких на свете много,
И если мне теперь их жизни всех лишить,
Так должен я почти весь свет опустошить.
Когда б и я, как вы, был мыслей столь нестройных,
Побил бы множество я тварей недостойных,
Которые собой лишь землю тяготят;
И первых бы с нее льстецов я свергнул в ад,
Жестокосердных всех и всех неблагодарных,
Неправедных судей, воров, друзей коварных;
Потом не миновал и тех бы мой указ,
Которые ползут без просу на Парнас.
Помыслите же вы, чему я свет подвергну,
Когда я тварей сих в дно адово низвергну?
Послушайте меня: оставим месть сию,
Я время каждому исправиться даю.
Не столько виноват ямщик, как вам он зрится,
Так ныне инако он мною усмирится;
Чрез два дни у «Руки» [589]кулачный будет бой,
Где будет воевать сей новый наш герой;
Он многих там бойцов ужасно завоюет,
За братскую любовь носки им всем рассует.
И се какой ему предел я положил:
Хочу, чтоб он один за нескольких служил;
Вы у́зрите, чего сей будет муж достоин.
Он был худой ямщик, а будет добрый воин».
Сие Зевес богам со важностью сказал
И всем разъехаться им в домы приказал.
Когда бы смертные все тако помышляли,
Дабы по склонности к делам определяли,
Тогда бы, может быть, негодный самый врач
Престал людей лечить и добрый был палач;
Судья, который дел совсем не понимает
И только за сукном лишь место занимает,
Он мог бы лучше быть, когда б он был кузнец.
Приемлют за сребро ошибкой и свинец.
Бывает добрый муж — худой единоборец,
Порядочный дьячок — прескверный стихотворец.
Итак, когда бы всяк в степень свою попал,
Давно б в невежестве уж свет не утопал.
Уже настал тот день, стал слышен рев медвежий,
На рев сей собралось премножество невежей,
Стекается к «Руке» со всех сторон народ,
Там множество крестьян, приказных и господ:
Одни между собой идут туда сражаться,
Другие травлею медвежьей забавляться.
О утешение! от скуки позевать,
Как псы невинного там зверя будут рвать;
Иль над подобными глумиться дураками,
Как рыцарствуют, бьясь взаимно кулаками.
Там несогласие стоит уже давно,
И злоба там бойцам разносит всем вино,
Невежество над всем там власть свою имеет,
И мудрость в сих местах явиться не посмеет.
Уже к сражению стояли две стены,
И славные бойцы вином напоены,
Которые сию забаву составляли,
Вытягивалися и руки поправляли;
Один снимал с себя и шапку, и кушак,
Другой навастривал на ближнего кулак,
Иной, до пояса спустя свою рубашку,
Примеривался, как идти ему вразмашку
И как сопернику за братскую любовь
Спустити из носу его излишню кровь
Или на личике фонарь кому поставить,
Чем мог бы всех на то смотрящих позабавить.
Меж тем Зевес окно в зените отворил
И тако всем тогда бессмертным говорил:
«Да будет, боги, вам сие известно ныне:
Выглядывать отсель льзя богу и богине,
Как некогда со мной вы зрели с сих же стран
На битвы страшные меж греков и троян;
Но вы меня тогда нередко облыгали,
Украдкой обои́м народам помогали.
А ныне, ежели кто по́мочь дать дерзнет,
Тот гнева моего никак не ускользнет.
Помощник целый год, как гладный пес, порыщет,
Ни в банях, ни в тюрьмах убежища не сыщет;
Хотя бы посреде он скрылся кабака,
И там велю ему натыкать я бока,
Доколе не пройдет сие урочно время.
Как хочете, а вы не суйтесь в это стремя».
Тогда они свои потупили глаза
И ждали, как сия минует их гроза,
Смирнехонько вокруг Зевеса все сидели
И только как сычи в окошечко глядели.
И се настал уже жестокой битвы час:
Сначала стал меж их ребячий слышен глас,
И в воздух раздались нестройные их крики,
А это было тут в подобие музыки.
Как туча, помрачив чистейший оризонт,
Облегшись тягостью своей на тихий понт,
Ужасной бурею на влагу лишь подует,
Престанет тишина и море возбунтует,
Потом ударит гром из темных облаков,—
Подобный оному стал стук от кулаков,
И с пыли облака густые вверх виются,
Удары громкие по рожам раздаются,
Лиется из носов кровавая река,
Побои чувствуют и спины и бока,
И от ударов сих исходят разны звоны;
Разносятся везде пощечин миллионы.
Один соперника там резнул под живот,
И после сам лежит, повержен, яко скот;
Другой сперва пошел на чистую размашку,
Нацелил прямо в нос; но, сделавши промашку,
Отверз свободный путь другого кулакам,
А тот, как по торгу́, гуляет по щекам.
Иной тут под глаза очки другому ставит,
Иной соперника, схватя за горло, давит,
Иному сделали лепешку из лица,
А он пошел в кабак и, выпив там винца,
Со прежней бодростью на битву устремился
И лучше прежнего сквозь стену проломился.
Се тако билися безмозглы мужики:
С одной страны купцы, с другия ямщики,
Как вдруг с купеческой страны герой выходит
И спорника себе меж всеми не находит.
Подобно яко лев, расторгнув свой запор,
Рыка́ет и бежит, бросая жадный взор,
Ко стаду робкому пасущейся скотины
В средине мягких трав прохладныя долины,
Где бедненький, его увидя, пастушок,
Из рук трепещущих повергнув посошок,
Единым бегствием живот свой избавляет,
А стадо хищнику на добычь оставляет.
Так новый сей Аякс, иль паче Диомид,
Имея на челе своем геройский вид,
Вломился и дели́т кулачные удары:
Побегли ямщики, как робкие татары,
Когда на их полях блеснул российский меч, —
Так должны ямщики тогда все были бечь…
Но слог сей кудреват и здесь не очень кстати,
Не попросту ль сказать, они должны бежати,
А грозный тот герой, как коршун, в них летит
И кулаками их, бегущих, тяготит.
Смутились все, как прах пред тучи грозной зраком;
Один падет стремглав, другой ползет там раком,
А третий, как медведь, пораненный, рычит,
Четвертый, яко бык, ударенный, мычит.
О бой, ужасный бой! без всякия корысти,
Ни силы конские, ни мужеские лысти
Не могут быстроты геройския сдержать…
Всё хочется словам высоким подражать.
Уймися, мой гудок, ведь ты гудишь лишь вздоры,
Так надобно ль тебе высоких слов наборы?
Посредственная речь тебе теперь нужна,
И чтобы не была надута, ни нежна;
Ступай своим путем, последуя Скаррону,
Скорее, может быть, достанешь ту корону,
Которую певцам парнасский бог дает.
Герой купеческий ямских героев бьет
И нумерит им всем на задницах пашпо́рты,
Трещат на ямщиках рубашки там и по́рты.
Все думали, что он в руках несет перун
И что он даст бойцам последний карачун;
Но вдруг лишился бой сего ужасна вида,
Когда пришел герой под сению Эгида,
Сокрытый им от всех смотрителей очей, —
То был под шапкою своею Елисей;
Не видим никому, он бой переменяет,
Смутил в единый час купцов и прогоняет,
Трясется от него их твердая стена,
А он на них кладет кровавы знамена.
От кулаков его все на розно делятся,
Не сотни перед ним, но тысящи валятся!
Победа к ямщикам прешла в единый миг,
И Елисей уже бойца того достиг,
Который воевал как черт меж ямщиками:
Уже разит его Елеська кулаками,
И множество ему тычков в глаза влепил,
Которыми его разбил и заслепил,
Свалился, яко дуб, секирою подсечен,
Лежит, Еле́сею разбит и изувечен;
Трикраты он себя с песку приподымал,
Трикраты на него он паки упадал
И наконец на нем лежит и чуть-чуть дышит
И Елисееву победу тамо пишет,
А попросту песок он задницей чертил,
Но встать с него в себе он сил не находил.
Движенья таковы всех к жалости подвигли,
Товарищи его тотчас к нему достигли,
Полмертвого бойца в кабак перенесли
И там ему вина на гривну поднесли,
Которым дух его ослабший ободрили
И паки тем ему дыханье возвратили.
Исправился купец, идет из кабака,
Вторично он в бою попал на ямщика;
Тут паки на него насунулся Елеся,
И паки, раз ему десятка два отвеся,
Сильнее прежнего он дал ему толчок,
Он паки задницей повергся на песок;
Но так уже ямщик купца туда запрятал,
Что весь седалища в нем образ напечатал,
И сказывают все, кто ходит в тот кабак,
Что будто и поднесь в песке тот виден знак.
Ямщик, сразя его, разить всех начал встречных,
Умножа за собой подбитых и увечных,
Загнал в трущобу всех купеческих повес,
И словом, он тогда был храбр, как Ахиллес.
Но можно ли кому с свирепым спорить роком!
Не знаю, кто с него сшиб шапку ненароком,
А он с открытою главою стал, как рак.
Хотел было бежать с побоища в кабак,
Но тут его свои, бегущего, схватили,
Свели во свой приказ и на цепь посадили.
Сбылася истина Зевесовых речей —
Елесеньке весь лоб подбрили до ушей;
Какой бы это знак, куда Елесю рядят,
Неу́жели его и впрямь во службу ладят?
Увы, то истина! был сделан приговор:
«Елеська как беглец, а может быть и вор,
Который никакой не нес мирския платы,
Сведен в военную и отдан там в солдаты».