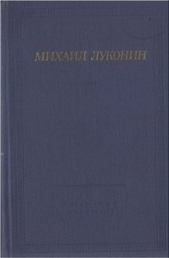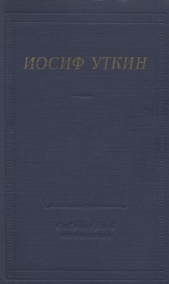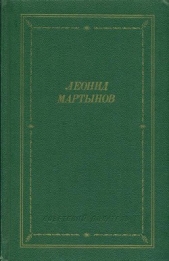Враг мой, друг мой, муж мой невенчанный,
Снова, снова, снова про тебя.
Нет кольца на пальце безымянном.
Но кольцом свивается судьба.
Сколько писем шлю тебе вдогонку
Годы, годы, годы напролет,
Теплых, как ладонь у нашего ребенка,
Ледяных, как ненависти лед.
А теперь — через годы и версты
Вдруг ответ, как черный водоем: —
Возвращайся, друг, запальчивым и черствый, —
Дни до смерти вместе проживем. —
И, внезапной злобою объята,
Я кричу в окно, в пространство: Нет!
Господин, низка у вас зарплата,
Не умею я варить обед!
Не умею утешать и холить,
И делиться, и давать отчет
За платок, за воротник соболий,
Ворковать над мужниным плечом.
Лучше пусть в гостинице дешевой
Я умру под мелкий зимний дождь,
В час, когда померкнет над альковом
Отраженье Люксембургских рощ.
Прибежит к студенту мидинетка,
Просвистит за стенкой качучу,
Постучат, смеясь, ко мне: — «Соседка!
Мы вас потревожим…» Промолчу.
И шепнет сосед гарсону в синей блузе: —
«Что-то этой русской не слыхать?» —
В комнату войдут и распахнут жалюзи,
Солнце брызнет на мою кровать,
Брызнет утро вечное Парижа,
Запах роз, гудрона, стук колес —
Только я их больше не увижу,
Ни людей, ни бледных роз.
Сын приедет, сходит на кладбище,
Побродит по улицам чужим,
Да еще в газете, может быть, напишут
Две строки петитом, смутные как дым.
<1932–1934>
Не оттого, что связан ты навек,
Не оттого, что ты любил другую,
Я при тебе не подымаю век,
Клянусь тебе, не оттого тоскую.
Соперницы старинной не боюсь.
Я знаю, друг, любовь неповторима, —
Сто разных роз один приносит куст,
Сто облаков встают из клубов дыма.
И все же сердце рвется и болит,
И счастья день невольно затуманен,
И мне тревога тайная твердит,
Что ты уже смертельно жизнью ранен.
<Сентябрь 1936>
Он в мире далеком
Давно знаменит:
Дворцы над широкой Невой,
И розово-серый
Прибрежный гранит,
И дымные дали его.
И сложены
Славные песни о нем.
Мы часто
С тобой
Их твердили вдвоем:
О том, как безумец погиб молодой,
Нахлестнутый невской чугунной волной,
Как грозный хозяин
На медном коне
По улицам скачет
В ночной тишине.
Но тот,
Кто прекрасную песню сложил,
Был сам здесь загублен в расцвете сил,
В простую рогожу
Поспешно зашит,
И вывезен тайно,
И тайно зарыт.
Властителям царства
И мертвый поэт
Казался опасен и страшен:
Могилы его
В этом городе нет,
Но кровь его —
В городе нашем.
1936
Я привожу к тебе моих друзей,
Чтобы они тебя умом затмили
Иль победили широтой плечей,
Улыбкой белозубой и румяной.
Но чудеса… Они перед тобой,
Речистые, внезапно умолкают
Иль жалкие слова лепечут робко.
А речь твоя кипит, искрится, блещет
Непринужденной силой вдохновенье.
Веселость детская твоя неотразима.
Они влюбляются в тебя, мужчины, —
Как мальчики глядят тебе в глаза
А ты встаешь, высокий, тонкий, светлый,
И говоришь с улыбкой: «До свиданья».
И ты к другим уходишь. Что мне делать?
Не ржавеет старинная любовь.
<Июль-август 1937>
Ты тоже не была счастливой, Анна.
Ты девочкой его, должно быть, полюбила,
Подростком рыжеватым и неловким,
Глядела на него влюбленными глазами.
Он беден был, упрям и малодушен,
Родители тебе его купили, Анна.
Ты поздним вечером стояла, Анна,
У той гостиницы, где мы с ним целовались.
Его на лестницу ты вызывала трижды —
Рассерженный, он вышел и вернулся.
В то утро я ему шепнула о ребенке…
Ты тоже не была счастливой, Анна.
Ты двадцать лет его держала, Анна,
Всей женской слабостью — простой и цепкой,
Всем чувством чести, свойственным мужчине.
От жгучего стыда он ночью просыпался,
И рядом — ты лежала на постели.
Ты тоже не была счастливой, Анна.
Не стала я с тобою спорить, Анна,
Я сына молча увезла на Север.
Взамен любви — судьба дала мне песни,
И смерть твоя разняла руки, Анна.
Я не сержусь, ты можешь спать спокойно,
Ты тоже не была счастливой, Анна.
<23 апреля 1937>