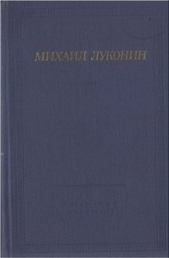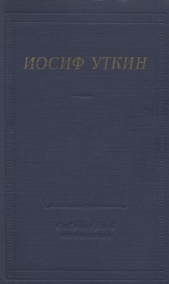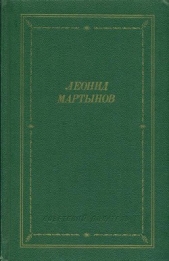Сердце эта смерть тревожит
Криком явственным в ночи.
Ты проснешься в мутной дрожи.
Тихо. Свет горит. Молчи.
Настене цветок обойный —
Профиль ложный мертвеца.
Все противно. Все спокойно, —
Бром в стакане, — жди конца.
Ночь как ночь, и звуки лиры —
Просто песенная блажь.
Никому в проклятом мире
Милой лиры не отдашь.
Схоронили. Придавили.
Гроб дубовый, глина, лед.
Вечер. Темная могила.
Ветер песенки поет.
<Январь 1926>
Жил мальчишка шалый и кудрявый
С дурью песни, с золотом волос.
В ближний город он ушел за славой —
На продажу песни он принес.
Говорится в сказках и рассказах —
Осмеяли люди простака.
Приняла мальчишку без отказа
Городская черная река.
Ну, а в жизни вышло все иначе —
Улыбнулась слава пастуху.
Стала жизнь — не жизнь, а удача,
И послушной звонкому стиху.
Стал, кудрявый, стихотворцем модным,
Пел и пил, меняя кабаки.
Сутенеры, девочки и сводни
Плакали под звонкие стихи.
Этот случай — всем давно известен,
И рассказывают в книгах так:
Посмеялись в городе над песней, —
Удавился в городе простак.
<1926>
Нет, мы тебе не побежим навстречу,
Тебе, гражданка Смерть, не в меру будет лесть.
Идея — порожденье человечье, —
Из-за нее в петлю не стоит лезть.
Собаки лаются, а ветер носит,
Пусть в равнодушье обвиняют нас,
Мы двух столетий жили на откосе,
Тебя, гражданка Смерть, мы видели не раз.
Твой выбор невелик, но верен:
Веревка, пуля, яд, вода, —
Ты многих соблазнила, лицемеря, —
Красивых, юных, пылких — иногда.
Идея, она бушевала
И слушать было неплохо,
Когда в девятнадцатом в стекла вокзалов
Стучало свинцовым горохом.
А нынче — бродит, медведя ручней,
И с палкой при ней поводырь,
И морда в железе, а в шкуре у ней
Не счесть унижений и дыр.
Нам будут завидовать поколенья.
Нас горькой памятью помянут.
Иные — счастливыми нас оценят,
Иные — несчастными назовут.
Три тома напишет историк казенный
О песнях революционных лет.
По рангу и чину поставят колонны
Носящих кличку — поэт.
Ты будешь читать наши книги, дитя,
Дитя поколенья чужого,
И ты удивишься, прочтя
Иное безумное слово.
<1926>
Друзья! Лирические оды
Писала я из года в год,
Но оды выпали из моды,
Мы перешли на хозрасчет.
Об этом факте не жалея,
Как Серапион и как поэт,
Я подсчитаю к юбилею
Все хозитоги за пять лет.
Начнем с Каверина. Каверин
(Одна десятая судьбы)
Десять десятых перемерил
И Хазу прочную добыл.
Сказать про Тихонова надо,
Что для поэта нет преград:
Покончил разом он с балладой
И держит курс на Арарат.
Никитин — тоже к юбилею
Идет на должной быстроте:
За ним могила Панбурлея,
Пред ним карьера в Болдрамте.
Слонимский, изживая кризис,
Машину создал Эмери
И лег меж Правдой и Ленгизом
На Николаевской, дом 3.
Иванов для Серапионов
В России сделал всё, что мог,
И Серапионовскую зону
Он расширяет на Восток.
Один лишь Зощенко теперь
Живет в обломках старой Хазы,
И юмористы СССР
Валяют под него рассказы.
Да Груздев, нерушим и светел,
Живет без классовых забот.
Так на пороге пятилетья
Мы перешли на хозрасчет!
<1 февраля 1926>
Я вижу город мой в рассветный ранний час.
Брожу по площади — как берегу столетий.
Хожу и думаю, и насыщаю глаз
Холодной пышностью его великолепий.
И муза здешних мест выходит из дворца,
Я узнаю ее негнувшиеся плечи
И тонкие черты воспетого лица,
И челку до бровей, и шаг нечеловечий.
По гравию дорог, меж строгих плоскостей,
Проходит мраморной походкою летучей.
И я гляжу ей вслед, свидетельнице дней,
Под нерисованной, неповторимой тучей.
И я не смею повести с ней речь.
И долгий день проходит как мгновенье,
И жестким холодом, моих касаясь плеч,
С Невы приходит ветер вдохновенья.
<1926>