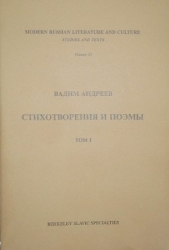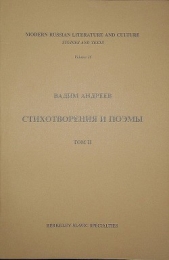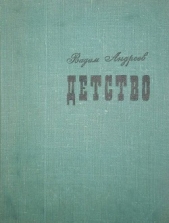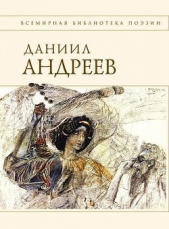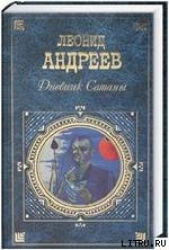Густея, нехотя течет река,
И, как в вино, макая в воду губы,
Спит ржавый снег. Взлетают облака,
Раскрыв хвостов сиреневых раструбы, —
И колосится нива снеговая.
И солнца ждут холодные цветы.
О кровь моя, усталостью густая,
Рекою черною течешь и ты!
У берега чуть нарастает лед.
Все медленней холодное струенье, —
Но сквозь покров зимы меня зовет
Иной земли прельстительное пенье.
Река течет в угрюмой колыбели.
Отдохновенная пришла пора.
Тяжелые январские метели
Над крышкой льда раскроют веера.
Бежит по черной проволоке кровь,
Бегут по черной проволоке звезды,
И электрическое сердце вновь
И вновь вдыхает удивленный воздух.
Взлетает птицею над линотипом
Прекрасный, теплый и бессмертный звук.
Строка рождается, и с слабым всхлипом
Она летит в объятия подруг.
Строка хранит небесный оттиск слов,
Строка внимает щебетанью клавиш,
И новый мир — необычайно нов, —
Рожденье даже смертью не исправишь.
И сохранив — непреходящей жизни —
На белом поле выросший посев,
Она своей расплавленной отчизны
Встречает радостно высокий гнев.
От жизни нас освобождает труд. —
Не так ли землю зимние покровы
От тщетной страсти строго берегут?
Рождается в огне густое слово,
И забываем мы, как нас зовут.
[Ум долгим очищается трудом.]
В преддверье смерти нас ведет усталость.
Мы отдыхаем в воздухе пустом.
Мы знаем, — наша жизнь — большая малость, —
Лишь сделав вещь, мы вечность создаем.
[1929]
Целостен мир и всегда неотъемлем.
С детства мы любим привычную землю.
С детства молчаньем и страхом полна
Непостижимая звезд глубина.
Слаще нам, ближе нам — день ото дня
Блеянье стада и ржанье коня,
Влажная глушь и болотная тишь,
Серая дранка насупленных крыш,
Звонкий, срывающий на ночь мороз
С неба огни и гераней и роз,
Черным медведем над белым прудом
Дышащий, спящий, нахохленный дом,
Пенье ворот и журчанье сверчка,
Милый уют — на века и века.
Но, позабыв притяженье земли,
Мы снаряжаем в ночи корабли, —
Недостоверной вверяясь звезде,
Мы покидаем привычное «здесь».
И по смоленой обшивке бежит
Ночь, как расплавленный, синий гранит;
Черный корабль неземные валы
Рвут и терзают, как падаль орлы;
Мы погибаем, а мачты скрипят,
Мы погибаем, а звезды горят,
И раскрываясь цветком, тишина
Нас усыпляет. Нам снится весна,
Райские кущи и райский покой,
Призрачный воздух, почти голубой, —
Но и на небе родная страна
В бездне, как в зеркале, отражена,
Но и на небе мы вспомним тебя,
Снова ревнуя и снова любя.
Плача, безумствуя и проклиная
Нежную бестолочь льстивого рая.
[1929]
Ты произносишь это слово
С любовью и недоуменьем.
Звезда средь неба голубого
Подернута легчайшим тленьем.
Звезда средь неба голубого!
Ужель и вправду вечереет?
Ты произносишь это слово,
Как произнесть никто не смеет.
И как огромная медуза,
Луна качается, всплывает.
Бежит, запахиваясь, муза,
Дыханьем пальцы согревает.
Летит, летит сквозь стекла окон
Звезда ко мне на изголовье.
Затейливый щекочет локон —
Иное как назвать любовью?
Иное как назвать любовью? —
И ты стихами отзовешься,
Ты ослепительною кровью
Во мне, не иссякая, бьешься.
«От старости лекарства не бывает».
Гостей встречает в лагере чума.
Закат отбуйствовал, и застывает
Прозрачным студнем тьма.
Мир отгорожен пологом палатки.
Ах, восковые слезы льет свеча.
Огромной Чайльд-Гарольдовской крылатки
Крыло — скользит с плеча.
«Смерть надевает золотые шпоры.
Бежит в беспамятстве неверный сон».
Сползает ночь, и покрывает горы
Суровый небосклон.
«Взнуздай коня и подтяни стремяна.
Ужель чума опередила нас?»
Оборванной строкою Дон-Жуана
Трепещет смертный час.
[1928]