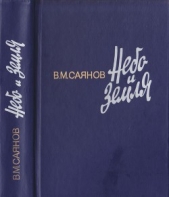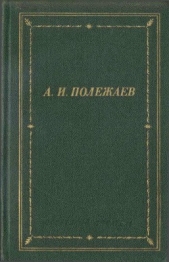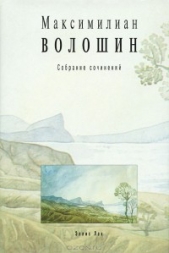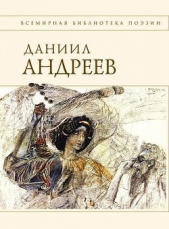Спит Алдан и спит Олёкма,
Реки северные спят,
И метель стучится в окна,
Распустив два дымных локона,
Космы серые до пят.
Парню рыженькому снится,
Будто ходят копачи,
Долго цвинькают синицей
И зовут его в ночи.
В шали рыжей, в шали черной,
Накрест сшитой на груди,
Вдоль по улице просторной
Ходит старший впереди.
По снегам, по хрусту галек
Он проходит налегке,
Полуштоф большой да шкалик
В окровавленной руке.
Парень рыженький проснется —
Прииск снегом занесло,
Снег высокий у колодца,
Дремлет дальнее село.
Спит Алдан и спит Олёкма,
Реки северные спят,
И метель стучится в окна,
Распустив два дымных локона,
Космы серые до пят.
Темнота на дальнем стане,
Осторожна тишина.
Шахта тихая в тумане
Потаенна и страшна.
Он спускается по лестнице.
Темь, мохнатая как шерсть.
Знать дается пулей-вестницей,
Что взаправду гости есть.
Кто там ходит? Кто шурует?
Пулю целит мне в висок?
Наше золото ворует?
Промывает наш песок?
Чья там торкается поступь?
Чьи тут ходят копачи,
На лицо наводят фосфор,
Чтоб светилося в ночи?
У крепей, у старых кровель
Тень большая копача.
«Вас я, братцы, не неволил», —
Вынимает он револьвер,
Заряжает сгоряча.
Копачи бегут украдкой,
Чтобы бить наверняка,
И тяжелою перчаткой
С сокровенною свинчаткой
Ударяют паренька.
Жизнь окончена в ночи,
Сон уж больше не приснится —
Ни дорога, ни синица,
Ни ночные копачи.
Убегают вверх убийцы
Со свинчатками в руках —
Только некуда пробиться:
Десять выстрелов дробится,
Дым холодный на штыках.
1933, 1937
Опять, не поверивши памяти-патоке,
Прошедшее тянет мне руки из тьмы,
От муки кандальной на сумрачной каторге
Бежал я тогда из царевой тюрьмы.
Я шел по Иркутску, и крался я стеночкой,
Накрапывал дождь, и звонили ко всенощной.
Союз Михаила-архангела нес
Хоругви и знамя на дальний откос.
Лабазники в шапках бобровых прошли.
Столбы придорожные ветхи.
Сутяжницы-пихты до самой земли
Пригнули тяжелые ветки.
Тебе ли, Сибирь, прозябать на роду
В охотном, в марьяжном, в купецком ряду,
С усобицей служб по старинным церквам,
С поддевками синего цвета,
С шустовской рябиновкой по кабакам,
С фитою и ятью по щирым листам,
С орлами по черным жандармским полкам,
Со всем, что цыганами спето?
Чуть осень настанет, пройдется метель
Полосками нищих мужицких земель,
Прудами рыбачьих затонов —
Дорога расхожена на прииска,
И гложет по громкому фарту тоска
Сумятицей души чалдонов.
Расписаны годы, и время всё занято,
В снегах достопамятных спит слобода,
И падают годы пролетные замертво,
Ползет по холодным полям лебеда.
Минутная встреча, невнятица, роздых —
И дальнедорожная стынет тоска,
И с новою явкой дорога при звездах,
За дальним Витимом зовут прииска.
Давно седина на висках и затылке,
А всё я никак не уйду с приисков,—
Со мной два товарища старых по ссылке
И сто партизанов шахтерских полков.
И жадность такая — всё больше бы золота
На драги несли придорожные рвы,
Скорей бы его с мерзлоты бы да со льда
В немолчно гремящие сейфы Москвы,
Чтоб, скупости подлой забыв перебранки,
В попрание вечное жизней пустых,
Отхожее место поставили правнуки
Из самых отменных пород золотых.
1933
Смерть придет — не в тоске умираем,
Сразу в памяти встанет судьба.
Вот сплотки — и по брошенным сваям
Осторожно бегут желоба.
Этой ночью, проворней, чем ястреб,
Память торной дорогой пройдет
По заметам сугробов и заструг
На речной остывающий лед.
Вот в лотке золотые крупицы,
В старой шахте дробится обвал,
Вот лицо инженера-убийцы,
Что на гибель меня посылал.
Так, но в смуте годов одичалых
Только память твоя дорога,
Вот весна протрубит на отвалах,
Ветер с веток сдувает снега.
Промелькни, пробеги по тропинке,
Чтоб я вновь увидал, как впервой,
Из сафьяновой кожи ботинки,
Оренбургский платок пуховой.
Вновь поет молодая истома,
Проступают из смуты и тьмы
Два разбитые кедра у дома,
Снеговое сиротство зимы.
А луна надо мною, как пряник,
И кругла и духмяна на вид.
Старый муж, трех дистанций исправник,
Вечерами тебя сторожит.
Только горные реки взыграли
Синим станом воды коренной,
Нас в царевый поход собирали,
Повели на германца войной.
Как война распахнула воротца,
Мы и запросто мерли и так,
Отдавая свое первородство
Перебежчикам конных атак.
Только после, по сотням дивизий,
Золоченую рвань волоча,
Двоеглавых орлов на девизе
Полоснули штыком сгоряча.
Вот и я восемнадцатым годом
Всё лечу на конях вороных.
Бродит паводок вешний по водам
Над прибоем голов молодых.
Я тебе присягал не как рекрут,
По согласью с тобой, по любви,
Через вал, набегающий к штреку,
Берега я увидел твои.
Скобяной ли товар, бакалейный,
Все гостиные лавки на слом,
Станет славою ста поколений
То, что было твоим ремеслом.
И минуты короткой не выждав,
Всё, что было тобой, возлюбя,
Снова встану, расстрелянный трижды,
Чтоб опять умереть за тебя.
Только дождь — и горят мои раны,
Чернокнижницы-тучи в пыли,
И в песок, в тротуар деревянный
Ударяют мои костыли.
Но поет молодая истома,
Проступают из смуты и тьмы
Два разбитые кедра у дома,
Снеговое сиротство зимы.
Вдалеке от дорожных колдобин
Спит в лазоревом дыме плетень,
Дальний берег, что смерти подобен
И уже беспросветен, как тень.
Ты — разор моей юности жаркой,
Полдень таборной жизни моей,
Всё лицо твое — в смеси неяркой
Костромских и татарских кровей.
Ты не плачь — осторожны наезды.
Весь поло́н моей жизни храня,
Словно слезы, падучие звезды
В эту полночь оплачут меня.
Мое имя в воде не потонет,
На дорожном костре не сгорит,
Его нож двоедана не тронет
И бродяга в тайге пощадит.
1933