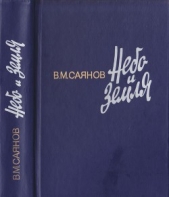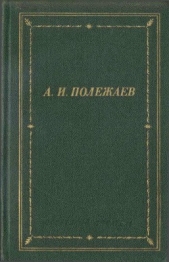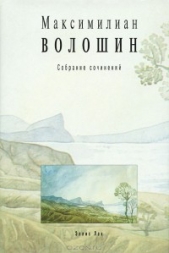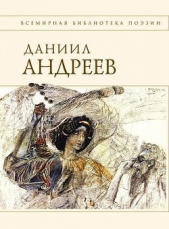Ты спросила меня, как зовется
Та звезда, — я не помнил, не знал,
Я в наплыве небесного воска
Глубь зрачков твоих ясных искал.
Знаю, там, в высоте, за оленем
Проскакал беспощадный стрелок.
Если б я неизбежным веленьем
В высоту сразу ринуться б смог,
Ты звезде мое имя дала бы,
До утра выходила смотреть
Над обрывом, где финские лайбы
Тянут к берегу редкую сеть.
И тогда не страшила б разлука,
Не томил наступающий день, —
Может, всё мое счастье, вся мука —
Этот скачущий звездный олень.
1932
Грозой расколот дуб огромный,
Она прошла, испепеля
Весь край той ветки, темной-темной,
Чуть ноздреватой, как земля.
Остался след в долине этой
Мелькнувшей молнии былой,
И пахнет воздух разогретый
Прогорклой северной смолой.
А где же молния? Сияньем
Уже вдали слепит она…
Пусть ты ушла, — а всё дыханьем
Твоим душа обожжена.
1932
Море разделившая зарница
Зажигает реи кораблей…
Хочешь, расскажу я про синицу
Сказку самых ранних, детских дней?
Та синица за море ходила,
За морями города зажгла…
Как я ей завидовал, и сила
В этой сказке дедовской была.
«Да какая ж это вот синица?» —
Спрашивал у взрослых я не раз…
Увидал — безропотная птица,
А гляди ж, какой о ней рассказ…
1932
Как темная даль беспредельна была…
Вновь слышу твой медленный голос, —
Кубанская шапка с размаху легла
На русый седеющий волос.
Упрямые губы всё шепчут свое,
А сердце по морю тоскует,
По лесу, где ночью кричит воронье
И белая вьюга колдует.
Так на́чалось наше знакомство с того,
Что взводы сверкнули штыками.
На улице дымной — снегов торжество.
Высокое небо над нами.
В извозчичьи сани мы сели. Москва
Вся в оползнях зеленокрылых.
Какие тогда говорили слова —
Пожалуй, я вспомнить не в силах.
А щеки мороз одичалый дерет,
Сквозь зубы два слова процедим —
И снова в пролет Триумфальных ворот
На низеньких саночках едем.
Фофа́н с толокном да Иван с волокном,
А вьюга-разлучница пляшет…
В ту ночь непогода шумит под окном,
Широкими крыльями машет.
Последняя ночь в деревянной Москве.
Ночные луженые своды.
В коротком раструбе, как в злом рукаве,
Грустят москворецкие воды.
Нас время разводит, нас годы трясут,
Давно мы с тобою седеем,
Но диких степей молодую красу
Вовеки забыть не посмеем.
Ты был комиссаром — и вел наш отряд.
Я был ординарцем веселым.
Флажки золотые на солнце горят
По вольным станицам и селам.
1933
70–97. ЗОЛОТАЯ ОЛЁКМА
Дай руку мне, пойдем со мною
В тот вьюжный край,
Он полонил мне сердце тишиною,
И снегом зим, и свистом птичьих стай.
Там горбоносых желтобровых птиц
Эвенк охотник ждет, и на рассвете
Слепят огни бесчисленных зарниц,
И гнет пурга тяжелых кедров ветви.
Тайга бежит по белым склонам вдоль
Последних побережий,
Где по заливам высыхает соль
И где во мхах таится след медвежий.
Там сердца моего заветная отрада,
Край детских лет,
Родной страны холодная громада,
Я — твой поэт.
1933
На Дьячем острове боярский сын Похабов
Построил хижину, чтоб собирать ясак…
Прошли года в глухой тоске ухабов,
Века легли, как гири на весах.
Над летниками тесными бурятов
Сыченый дух да хмель болотных трав;
Сюда бежали, бросивши Саратов,
И вольный Дон, и старой веры нрав.
И город встал в пролете этом узком,
Суму снегов надевши набекрень,
И наречен он был в веках Иркутском,
Окуренный пожарами курень.
Вот он встает в туманах, перебитых
Неумолимым присвистом весны.
Немало есть фамилий именитых —
Трапезниковы, Львовы, Баснины.
Он богател. Его жирели тракты.
Делил полмира белыми дверьми,
И чай везли его подводы с Кяхты,
Обозы шли из Томска и Перми.
Он грузен стал, он стал богат, а впрочем,
Судеб возможно ль было ждать иных
От золотых и соболиных вотчин,
От ярмарок и паузков речных.
Он, словно струг, в века врезался, древний.
Рубили дом, стучали топоры,
Бродяги шли из Жилкинской деревни,
С Ерусалимской проклятой горы.
Он шлет их вдаль. Оборванные парни
Идут навстречу смерти и пурге,
Мрут от цинги в тени холодных варниц,
От пули гибнут смолоду в тайге —
Чтоб богател, чтоб наливался жиром
Купеческий, кабацкий, поторжной,
На весь немшоный край, над целым полумиром
Поставленный купцами и казной.
1933