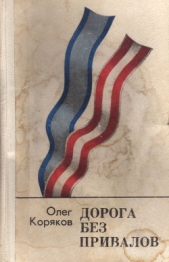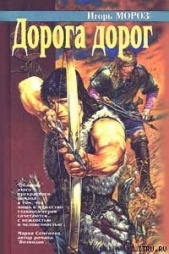Переправа Дунафёльдвара
в двух минутах,
в трехстах шагах.
Древний дом лесника-мадьяра
от бомбежек —
в черных снегах.
Под убогим,
но прочным кровом
трех колен родовых старожил,
словно ворон в дупле дубовом, —
венгр-хозяин в том доме жил.
Он сидел у окна в волненье,
дни и ночи
не спал, не ел,
он в каком-то страшном мученье
все на правый берег смотрел…
Отдыхали у старца в доме
первый раз за четыре дня
в теплой дреме,
в глухой истоме
прикорнувшие на соломе
и курящие у огня
парни, видевшие тревоги,
люди Волги и Ангары.
Ледяные живые боги
крепко спали, раскинув ноги;
часовой стоял на пороге
в шубе инея и махры.
…До проклятья,
до огорченья
(водяного, что ль, колдовство?),
трижды мост срывало теченье,
трижды в день наводили его.
Сколько раз разрывы сверкали,
оглушая гневный Дунай!
В километре —
по вертикали —
от Дуная передний край.
Самый жаркий участок фронта!
Каждый час
над проклятой водой
многотрубный рев мастодонта —
скоротечный воздушный бой.
Каждый час
в тревоге щемящей
мы следили: не сбит ли мост?
Каждый час
в высоте гремящей
поединки крестов и звезд.
А внизу, на воде, под ветрáми,
и не думали о беде:
понтонеры с бревном,
с досками,
с автогенами,
со скобами,
с ледяными, как сталь, руками
дюйм за дюймом
шли по воде.
На плацдарме дыра сквозная,
и заткнуть ее — нет земли;
танки вражьи
рвались к Дунаю,
понтонеры навстречу шли.
Шли с таранною переправой
под огнем
в чугунном снегу…
Полыхали костры на правом
ожидающем берегу.
А в дому,
у окна, в молчанье —
словно втиснуто на века —
бородатое изваянье
колдовавшего лесника.
И когда стволы,
и колеса,
и московские башмаки
разноскрипно,
разноголосо
из укрытий сошли с откоса,
поднял к небу лесник зрачки,
и, как будто стряхнув усталость,
он чело осенил перстом:
половина еще осталась милой
Венгрии за мостом…
…Не забуду я,
не забуду,
помнить дó смерти мне дано:
танки, рвавшиеся за Буду,
к Эстергому,
на Комарно,
интендантскую лихорадку
со снабжением на бегу,
и саратовскую трехрядку
в Будафоке,
на берегу,
и немецкого контрудара
бронированные толчки
к переправе Дунафёльдвара —
в направленье Дунай-реки,
поредевшие наши роты,
наши танковые полки,
их внезапные повороты
и стремительные броски.
Не забуду я
берег правый
и уральского «ястребка»
над тревожною переправой
и бессонницей лесника.
Есть такая песенка в Унгарии,
пели в дни войны
ее
одну
(с грустью провожают очи карие
капитана-венгра на войну).
Кружится пластинка патефонная —
веры и заклятья талисман,
напевает женщина влюбленная:
— Висонтлааташра, капитан!
Дни и ночи та пластинка кружится —
хриплое эстрадное былье —
скорбная хозяйка дома
Жужица
каждый вечер слушает ее.
Кончится круженье патефонное —
бой стенных,
полночный
зимний час, —
вновь заводит женщина бессонная
все одну и ту ж,
в который раз!
…От карпатского селенья Клаури —
через Будапешт
на Сомбатель —
над землею этой
в белом трауре
кружится гигантская метель.
Сумасшедшая пластинка кружится,
кажется,
что к Дону сквозь туман
в этот час выходит в черном Жужица:
— Висонтлааташра, капитан!..
Мы над скорбью женщины не охали,
не вздыхали
лживым холодком,
спусковыми у виска не грохали,
в двери не стучали кулаком.
Мы ей отвечали состраданием,
мы щадили ту слезу в глазах,
что зовется вдовьим заклинанием
на кровавых всех материках.