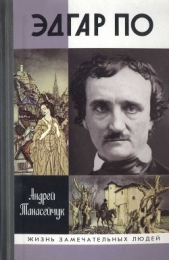Стихотворения. Проза

Стихотворения. Проза читать книгу онлайн
Проза Эдгара По (1809-1849) имеет более чем вековую историю публикаций на русском языке. Его поэзия стала своего рода студией стиха для многих поколений русских поэтов. В восприятии миллионов русских читателей он вошел в мировую литературу как художник, который всю жизнь искал прекрасное и тревожно спрашивал у себя и у других: "Гдe этот край, край золотой Эльдорадо?". В сборник вошли стихотворения и проза Эдгара По («Рукопись найденная в бутылке», «Свидание», «Морелла», «Черт на колокольне», «Остров феи» и мн. др.).
Составление, вступительная статья и примечания Г. Злобина.
Перевод с английского М. Беккер, В. Рогова, И. Гуровой, И. Бернштейн, Г. Шмакова, М. Донского и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После того как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения.
– Парижская полиция, – сказал он, – по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он обыскивал особняк Д., я проникся неколебимой уверенностью, что он действительно исчерпал все возможности – в том направлении, в каком он действовал.
– В том направлении, в каком он действовал? – переспросил я.
– Да, – сказал Дюпен. – Принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы.
Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно.
– Итак, – продолжал он, – принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым поящем, к которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно; найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре «чет и нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и опрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу – нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал „нечет“, и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу – „чет!“ Он говорит „чет!“ и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили „счастливчиком“. Но, в сущности говоря, что это такое?
– Всего только, – ответил я, – уменье полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника.
– Вот именно, – сказал Дюпен. – А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик иди о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением». Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы.
– А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника, – сказал я, – зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего.
– Практически говоря, оно зависит именно от этого, – ответил Дюпен, – а префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления, и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии, и когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отношении они правы: их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей; но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто – когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д.? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены здания на пронумерованные квадратные дюймы: но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа – а вернее, ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал само собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то, во всяком случае, в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники столь recherches [359] годятся только для заурядных случаев и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия – способ rechecrhe – предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или (что, на взгляд человека, причастного к политике, одно и то же) о большой награде, вышеперечисленные качества неизменно обеспечивали успешное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что именно я подразумевал, когда сказал, что, будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект, – другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект, – оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки – поэты, – по крайней мере, так кажется префекту, и он повинен всего лишь в поп distributio medii [360], поскольку выводит отсюда, что все поэты – дураки.
– Но действительно ли речь идет о поэте? – спросил я. – Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт.
– Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю – он и то и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям, а будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним.
– Меня поражают, – сказал я, – эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками! Математическая логика издавна считалась логикой par excellence [361].
– «II у a a parier, – возразил Дюпен, цитируя Шамфора, – que toute idee publique, toute convention regue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre» [362] Не спорю: математики сделали все, от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, исподтишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «ambitus» [363] – «амбицию», а «religio» [364] – «религию».