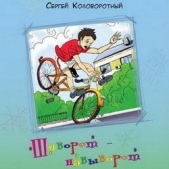Меня попеременно охватывали восторг и горькое разочарование, я то загорался, то угасал! О, какие это были баталии! Меня швыряло как щепку в океане: вперед-назад, налево-направо, вверх-вниз. Страсти налетали с такой силой, что меня распластывало на месте. Как бурный ручей тщится оторваться от каменной глыбы, под которой рождается, так я годами мучительно рвал узду. Я брызгал слюной, бил ногами, взвивался, на шее у меня вздувались жилы. Напрасные труды — путы не слабели. Обессиленный, я валился на землю, но хлыст и шпора живо ставили меня на ноги: а ну пошел!
Самое удивительное, что привязан я был к самому себе. Быть с собой у меня не получалось, равно как и отвязаться от самого себя. Как только вонзалась шпора — натягивалась узда! От неукротимого беспокойства живот у меня был стерт до крови, а морда навсегда болезненно исказилась. И в этой цепи бурных приливов и отливов, клокотавших под внешним оцепенением, я сам себе был скала и цепь, узда и кнут.
Замурованный в себе, не в состоянии пошевелиться и не схлопотать оплеуху, не в состоянии не пошевелиться и не схлопотать другую, я сгорал от ожиданий и млел от страха. Так шли годы. У меня выросли такие космы, что вскоре я совсем запутался в этом бурьяне. В них угнездились уймы каких-то воинственных и ненасытных насекомых. Когда они не истребляли друг друга, они жрали меня, обращаясь со мной как со своей добычей или, еще хуже, полем битвы. Они обосновались у меня в ушных раковинах, расселились в подмышках, заползли в пах, изъели мне веки, испещрили черными пятнами лоб, укутали меня в живой, непрестанно шевелящийся бурый плащ. Ногти у меня на ногах тоже выросли такие, что, если бы не крысы, кто знает, что бы я с ними делал. Время от времени я отправлял в рот — а из-за несметных орд этих букашек он у меня едва открывался — ничем не приправленный кусок сырого мяса, выдранный наудачу из невзначай забредшего сюда живого существа.
Такой образ жизни и здоровяка бы угробил, а я, к сожалению, хорошим здоровьем не отличаюсь. Однако по прошествии некоторого времени на меня наткнулись соседи; не исключено, что они пришли на вонь. Не решаясь ко мне притронуться, они созвали моих родственников и друзей. Состоялся семейный совет. Меня не отвязали. Вовсе нет. Меня препоручили педагогу. Чтобы он учил меня искусству самообладания и внутренней свободы.
Я подвергся интенсивному курсу обучения. Часами учитель своим звонким и торжественным голосом наставлял меня в науках. Хлыст регулярно прочерчивал в воздухе зигзаги и оставлял у меня на коже стройные и длинные иероглифы. С вытаращенными глазами, высунутым языком, с дрожащими от напряжения мускулами я мотался по кругу, скакал сквозь огненный обруч, вытаскивал и опускал деревянные бадьи. Учитель владел хлыстом с уверенностью аристократа. Он никогда не бывал доволен и всегда был неутомим. Кому-то этот метод может показаться слишком суровым, но я был благодарен ему за лютое его усердие и старался показать, что я ему доверяю. Признательность я выражал стыдливо, сдержанно, но истово и от души. Весь в кровавой пене, со слезами умиления на глазах я безостановочно скакал в такт ударам хлыста. Иногда усталость оказывалась сильнее боли и сваливала меня с ног. И тогда в пыльном воздухе свистел хлыст, с ласковой улыбкой он подходил ко мне и со словами «а ну-ка» щекотал мне ребра кинжальчиком. Ранка и ободряющие слова быстро ставили меня на ноги. Учитель с удвоенным пылом продолжал урок. Я гордился учителем и — почему бы не сказать как есть — своим прилежанием и высоким уделом тоже.
Неожиданность и нелогичность лежали в основе этой системы обучения. Как-то раз, ничего не сказав мне заранее, меня взяли и выпустили. Я вдруг оказался в обществе. Поначалу, ослепленный огнями и пораженный скоплением народа, я почувствовал необъяснимый страх. К счастью, учитель был неподалеку, это укрепило дух и обнадежило меня. Когда я услыхал его еще более обычного визгливый голос и уловил знакомый бодрящий посвист хлыста, я успокоился. Совладав с собой, я начал делать то, чему меня с таким трудом научили. Сперва робко, а потом все увереннее я прыгал, танцевал, кланялся, улыбался и снова прыгал. Все меня поздравляли. Я взволнованно раскланивался. Осмелев, я весьма кстати вставил три или четыре удачные фразы, тщательно заранее приготовленные, и произнес их с таким небрежным видом, словно они мне только что в голову пришли. Успех был оглушительным, и кое-кто из дам взглянул на меня с благоволением. Комплименты лились рекой. Я кланялся и благодарил. Опьяненный успехом, я с распростертыми объятиями рванулся вперед. Я так растрогался, что мне захотелось обнять всех моих ближних. Те, что стояли рядом, отступили. Я понял, что мне следует остановиться, смутно осознав, что сделал какую-то большую бестактность. Но было поздно. И когда я очутился возле одной очаровательной девчушки, мой смущенный учитель призвал меня к порядку, взмахнув добела раскаленным на конце металлическим прутом. Я взвыл от ожога. В гневе я отпрянул назад. Учитель выхватил револьвер и выстрелил в воздух. Надо признать, он отличался исключительным самообладанием, улыбка никогда его не покидала. В общей сумятице меня вдруг озарило. Я понял, что он прав. Сдерживая боль, я растерянно и смущенно мямлил извинения. Потом поклонился и вышел. Ноги у меня подгибались, голова пылала. Перешептывание сопровождало меня до дверей.
Стоит ли рассказывать дальше? Так блистательно начавшаяся карьера сразу оборвалась. Я влачу томительное существование, у меня нет будущего, зато теперь я тщательно взвешиваю свои поступки. Мне еще потом долго вспоминалось все приключившееся со мной той зловещей ночью: и моя растерянность, и то, как улыбался учитель, и то, какие я делал успехи, а потом это тупое самоупоение и в итоге — позор. И никак мне не отделаться от воспоминаний о днях моего учения, времени лихорадочных упований, о бессонных ночах, удушающей пыли, беге и прыжках через препятствия, посвисте хлыста и голосе учителя. Память об этом — единственное, что у меня осталось.
Это правда, что в жизни я не преуспел и из моего укрытия выхожу, только если уверен, что меня никто не узнает, и только если очень нужно. Но наедине с самим собой, когда отчаяние и зависть хватают меня за горло, я вспоминаю о тех временах, и на меня нисходит умиротворение. Благотворное воздействие воспитания в земной жизни меня уже не оставит; возможно, оно не оставит меня и в загробной.