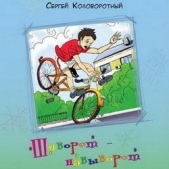Перевод Вс. Багно
Я разумом об этом знал,
не сердцем:
после аккорда быть последует не быть.
Такой же звук, такой же миг,
но имя и лицо уже в прошлом. Время —
личина без лица —
стирая имена, стирая лица,
себя стирает.
Я не обучен умирать Буддой.
Он говорил: истаивают лица,
а имена — пустые звуки.
И все-таки у каждого из нас в минуту смерти
есть и лицо, и имя.
На пепельном пороге
кто мне глаза откроет?
Я возвращаюсь вновь к моим священным текстам,
к истории идальго, прочитанной столь скверно
в детстве, озаренном солнцем,
которое неистовствовало
между исполосованными льяносами,
схватками ветра с пылью,
к пиру, зеленеющим источником тени,
сьеррой, набычившейся
при встрече с чреватой химерами тучей,
молниеносным лучом,
прорезавшим живое тело пространства,—
жертва и геометрия.
Я погружался в это чтение,
обволакиваемый чудесами и разочарованиями:
два вулкана на юге
из времени, снега и дали;
неистовые герои,
встающие со страниц из камня;
террасы бредовых видений;
почти лазурные холмы,
раскрашенные невидимыми руками;
полдень-резчик,
готовый без устали ваять,
и просторы, благодаря которым глаз
осваивает мастерство пичуги и зодчего-поэта.
Плато, терраса зодиака,
арена солнца и планет,
луны зеркальность,
прилив, взвихривший камень,
уступы безмерности,
рвущейся вверх с рассветом
и теряющейся внизу с наступлением тягостной ночи,
заполненный лавой сад, дом, исполненный эха,
барабаны грома, раковины ветра,
вертеп дождя,
ангар облаков и туч, голубятня звезд.
Вихрем кружатся времена года и дни,
кружатся небеса то медленнее, то быстрее,
скользящие предания туч,
поля игры, поля сражений,
трепещущие сплетениями бликов,
империи ветра, рассеянные ветром:
в ясные дни даль подернута маревом,
у звуков появляются очертания,
отзвуки становятся видимыми, а тишина слышимой.
Источник образов,
струится день, претворяясь в фантомы.
Льяносы покрыты прахом.
Перемолоты солнцем кости веков,
время, ставшее жаждой и светом, призрачный прах
под куполом сквозным небес,
покинув свое каменистое ложе,
танцует в спиралях красновато-бурых,
танцует прах, от нас сокрытый.
В мгновении таится вечность,
самодостаточная вечность,
долгие паузы, выпавшие из времени,
ибо каждый час осязаем, в очертаниях
раскрывается мысль, а в покое пульсирует танец.
Отдавшись воле вечеров, как волн,
я эти страницы прожил, не прочел:
и недвижный, трепещущий горизонт;
и мертвенный ливень,
низринутый на льяносы с Ахуско
под грохот падающих глыб и цоканье копыт,
чтобы тихой заводью вдруг обернуться;
и босоногий дождь
на красноватых кирпичах двора;
и бугенвилья, фиолетовый порыв,
в саду заглохлом…
Мои чувства в разладе с миром:
не надолго нас примирило чтение.
Память властно вторгается в день сегодняшний,
вторгаясь в меня самого. Сплетается
с прожитым настоящее.
Я эту книгу читаю, не открывая глаз:
вернувшись из сумасбродства,
идальго возвращается к имени, вперив взор
в дремотную поверхность неподвластного времени мига.
На расплывчатом зеркале
в дрожащих лучах солнца проступит лицо.
Умершего лицо.
В такую минуту,
сказал он, человеку шутить со своею душою не стоит.
Он видит свое лицо,
тающее среди бликов.
Перевод Б. Дубина
Стихи нельзя объяснить — только понять.
Стихи — это ритм, ставший словом, а не просто, как в песенке, положенные на ритм слова или словесный ритм любого высказывания, включая прозу.
Ритм живет отличием и подобием: этот звук не тот, но как бы такой же.
Ритм — уже метафора, остальные следуют за ней. Скажу иначе: смена — это повторение, а время — вневременность.
В лирике ли, эпосе или драме поэзия — всегда последовательность и повторение, миг и обряд. Хэппенинг — тоже поэзия (представление) и обряд (празднество). Но в нем нет одного и главного — ритма, перевоплощенного мига. Мы вновь и вновь повторяем пятистопные строки Гонгоры и финальные односложники из «Высоколенка» Уидобро; снова и снова Сван слушает сонату Вентейля, Агамемнон приносит в жертву Ифигению, Сехисмундо понимает, что пробуждение — тоже сон. Хэппенинг однократен.
В свою очередь любой миг растворяется в безликой последовательности мгновений. Мы сберегаем его, обращая в ритм. Хэппенинг приоткрывает другую возможность — неповторимого мгновения. Поэтому оно последнее, а сам хэппенинг — аллегория смерти.
Римский цирк — предвестие и опровержение хэппенинга. Предвестие, поскольку по законам подлинного хэппенинга действующие лица здесь обречены на смерть, а опровержение — потому, что представить действительно последний миг можно лишь ценой гибели всего человеческого рода. Единственное взаправду неповторимое мгновение — конец света. Между римским цирком и современным хэппенингом я бы поставил бой быков. Риск — и стиль.
Поэма из одного слога может быть не проще «Божественной комедии» или «Потерянного рая». Сутра «Сатасагашрика» излагает учение в ста тысячах строф; «Эксаксари» — в единственном звуке «а». В нем весь язык со всеми своими смыслами и вместе с тем — последнее упразднение смысла, и языка, и мира.
Понять стихотворение — значит прежде всего его услышать.
Слова входят через слух, сменяются перед глазами, тают при всматривании. Любое прочтение стихов завершается безмолвием.
Читать стихи — значит слушать глазами, слушать — читать слухом.
В Соединенных Штатах стало модно исполнять свои стихи перед публикой. Затея малоудачная — настолько мы растеряли искусство слушать стихи; кроме того, нынешние поэты — мастера письменной речи и потому плохие исполнители собственных чувств. И все же будущее — за изустной поэзией. Сотрудничество говорящих и мыслящих машин с публикой, состоящей из поэтов, станет искусством слушать и сочетать высказывания. А разве не ему предаются всякий раз, читая книгу стихов?
Читая или слушая стихи, не пользуются нюхом, вкусом или осязанием. Все эти чувства пробуждают мысленные образы, А чтобы пережить стихотворение, его нужно понять, но чтобы понять — надо услышать, увидеть, охватить зрением, то есть обратить в отзвук, призрак, ничто. Понимание — это усилие чистого духа. Художник Марсель Дюшан говорил: если трехмерный предмет отбрасывает двухмерную тень, поищем четырехмерный, чья тень — мы сами. Я же ищу одномерный предмет, вовсе не отбрасывающий тени.
Каждый читатель — тот же поэт, каждое стихотворение — любое другое. Ни минуты не стоя на месте, поэзия никуда не спешит. В разговоре каждая фраза предвосхищает следующую: у этой цепи есть начало и конец. В стихах первая фраза содержит последнюю, как последняя — первую. Поэзия — единственный способ противостоять линейному времени, так называемому прогрессу.
Мораль писателя не в темах и не в мыслях, а в поведении один на один с языком.
Техника в поэзии и есть мораль, поскольку она не манипуляция, а страсть и аскеза.
Виршеплет говорит о себе и, как правило, от лица других. Поэт, обращаясь к себе, говорит с другими.
Противоположность «замкнутого» и «открытого» в искусстве относительна. Герметичным стихам тоже необходимо вторжение читателя, иначе кто их разгадает? А «открытые» невозможны без какой-то, пусть минимальной, структуры — отправной точки, или, как выражаются буддисты, «опоры» для мысли. В первом случае стихи открываются читателю, во втором — читатель их доводит и замыкает.
Чистая страница либо страница с одними знаками препинания — это клетка без пичуги. В подлинно открытом произведении дверца заперта: распахнув ее, читатель выпускает на волю птицу стихотворения. Открывая стихи в поисках этого, обнаруживаешь то — и всегда иное.
Открытые стихи или закрытые, они всегда предполагают уход со сцены написавшего их поэта и рождение поэта, их читающего.
Поэзия — это вековечная борьба с предрешенным смыслом. У нее две крайности: либо стихотворение вбирает в себя все возможные смыслы и становится знаком чего угодно, либо оно вообще отрицает наличие у языка какого бы то ни было смысла. В наше время по первому пути пошел Малларме, по второму — дадаисты. Язык по ту сторону языка — или разрушение языка его собственными средствами.
Дадаисты потерпели крах, видя торжество поэта в разрушении языка. Сюрреализм, напротив, утвердил верховенство языка над поэтом. Сегодня же молодые поэты стремятся стереть различие между творцом и читателем, найдя точку встречи говорящего со слушателем. Эта точка и составляет центр языка — не диалога между «я» и «ты», не «я», помноженного на два, но многоголосого монолога, исходной несогласованности, иносогласия. Сбывается пророчество Лотреамона: поэзия будет делом всех.
С разложением средневекового католицизма искусство отделилось от общества. Вскоре оно стало индивидуальной религией, замкнутым культом в рамках той или иной секты. Родилось понятие «произведения искусства», а с ним — идея «эстетического созерцания», Кант и так далее. Начинающаяся сегодня эпоха рано или поздно покончит с так называемыми произведениями и растворит созерцание в действии. Не новое искусство, а новая обрядность, празднество — изобретение образца страсти, который станет началом нового упорядочения времени, пространства и языка. Исполнить завет Ницше, довести его отрицание до конца. Там нас ждет игра — праздник, завершение искусства в мгновенном воплощении и рассеянии. Довести его отрицание до конца. Там нас ждет созерцание — развоплощение языка, полная прозрачность. Что предлагает буддизм? Конец связей, упразднение диалектики — безмолвие, в котором не разложение, а разрешение языка.
Стихотворение должно провоцировать читателя, заставляя его вслушиваться — и слышаться.
Стихи рождаются из отчаяния перед бессилием слова, чтобы в конце концов склониться перед всесильем безмолвия.
Не представляю себе поэта, в жизни не поддавшегося соблазну упразднить язык и создать другой, не испытавшего колдовскую власть бессмыслицы и еще более жуткую мощь несказанного смысла.
Стихи пробиваются из расщелины между воплем и немотой, смыслом всех смыслов и утратой всякой осмысленности. О чем говорит эта ниточка льющихся слов? О том, что не сказала ничего, уже не сказанного до нее немотой и воплем. И тут же звук и безмолвие обрываются. Хрупкое торжество под угрозой пустых, незначащих слов и безмолвия, означающего пустоту.
Верить в бессмертие стихов — то же самое, что верить в бессмертие языка. Смиримся с очевидным: языки рождаются и умирают, любой язык рано или поздно теряет значение. Но может быть, эта потеря — знак какого-то нового значения? Смиримся с очевидным…
Торжество слова: стихотворение напоминает обнаженные женские фигуры, что символизирует в немецкой живописи торжество смерти. Живые и величественные памятники распаду плоти. Поэзия и математика — два полюса языка. За пределами их — пустота, область несказанного. Между ними — обширная, но строго очерченная область речи.
У влюбленного в безмолвие поэта есть лишь одно спасение — речь.
Слово опирается на безмолвие, предшествующее речи, — это предвосхищение языка. Безмолвие, следующее за речью, покоится в лоне слова — и это безмолвие тайнописи. Стихотворение — мостик между одним и другим безмолвием, между тягой к речи и безмолвием, которым живы и тяга, и речь.
По ту сторону новшеств и перепевов.