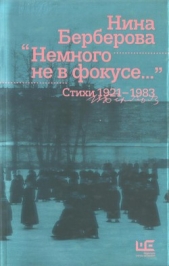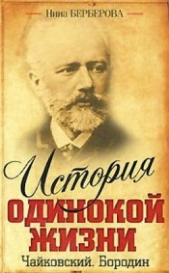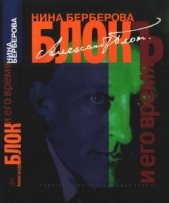Дети мои, внуки мои,
Черные жемчужины!
Дедов не знали, отцов потеряли, —
Сироты!
“Сердитые” и молодые,
Бородатые, “битые” и смешные,
Редкие,
Как синие алмазы,
Как черные жемчужины.
Родина вам — чужбина
(А мне чужбина — родина),
Вы — родинки России,
Благородства признаки,
Никем не признанные.
Не богатые, не славные,
В списки не занесенные,
Дачами не пожалованные.
Говорю с вами и только вам:
Двадцатый век над нами
Летит облаками.
Вы двадцать первый увидите,
А я — нет.
Вы закат кровавый увидите,
А я видала рассвет.
Вы — поэты, и я поэт.
Не разговор у нас — монолог,
Но вы меня слышите.
Спасибо за то, что вы дышите,
Что обо мне спросили,
По имени назвали,
Сказали и замолчали.
Я ваши четыре слова
Повторяю снова и снова,
Я ваше молчание Уношу в бессонницы.
Я никогда не молюсь,
Я никого не боюсь,
Я ни о чем не плачу.
1961
Какой сухой и душный летний день!
Какая пыль над Петербургом висла!
Торцы меняли на Морской. Стоял
Ужасный грохот. Мать хотела сына,
Отец хотел не сына, нет, но дочь.
Был ранний час и в Дублине еще
Никто не просыпался в старом доме
И не скрипел пером в углу своем,
А в Вене собрались уже студенты
Галдя, сморкаясь, споря и куря;
И в доме у реки, в другой столице,
Лохматый, с выпученными глазами,
Смотрел весь день на формулу свою,
Готовя век к таким переворотам,
Которые не снились, друг Горацьо,
Ни нашим мудрецам, ни тем фантастам,
Которые…
Уж если семь часов
Кричать и выть от боли, то уж лучше
Пусть будет мальчик! День и ночь Морская
Кипящим дегтем пахла из котлов,
И этот запах я теперь люблю.
Я в мир вошла, мать разорвав на части,
Пока Монэ писал свои соборы,
И Малер сочинял свою шестую.
Я грызла грудь ее потом до крови,
Я не давала спать ей шесть недель
Немолчным криком в жарком Петербурге.
И плакала она тогда ночами
От слабости, от боли и от страха,
Что я не буду на нее похожа.
(И я могу сказать, что оказалась
Она права). Но веселился рядом
Отец, что вышло по его хотенью,
И говорил, что если я ору,
То откричусь заранее и после
Уже не буду плакать никогда.
(Он в этом оказался тоже прав.)
И оба правотой своей гордились
До самой смерти. До тех пор, когда
Все там же, в том же старом Петербурге
(Но в ледяном сорок втором году)
Они замерзли вместе черной ночью.
1967
Опять, третий раз в столетие, полмира не спит:
Ждет. Слушает. Молчит.
Дрожит.
— Растворимся со вздохом?
— Распадемся с грохотом?
(вместе с Моцартами, закатами,
восходами и свободами).
Люди, вы не угадали будущего,
Вы не узнали своих пророков
двадцатых, тридцатых, сороковых годов.
И никто не готов!
Вы уснули, и никто не разбудит вас,
Никто не воскреснет под трубный глас,
Никто не дождется сроков.
Пепел по ветру будет стелиться,
Пепел скроет людские лица,
Будет в вас, впереди и за вами,
Будет в вас и над вами.
А где же ваши поэты?
Они ждут. Слушают.
Дрожат.
Не призывают гуннов?
Не приветствуют варваров?
Говорят: в самом длинном из всех столетий
У нас не хватает междометий.
1973
Соловей на ветке,
Соловей в клетке
(дети поймали и теперь он там сидит)
Через тысячу лет —
Разницы нет.
Ласточка под облаками,
Ласточка в помойной яме
(она упала туда и захлебнулась в помоях)
Через тысячу лет —
Разницы нет.
Жаворонок в небе,
Жаворонок, запеченный в хлебе
(и политый сметанным соусом),
Через тысячу лет —
Разницы нет.
Гений на эстраде, в зале,
Гений на лесоповале
(Сталин послал его туда, — помнишь?)
Через тысячу лет —
Разницы нет.
Мы всё это вместе сложили
И тысячу лет прожили.
1974