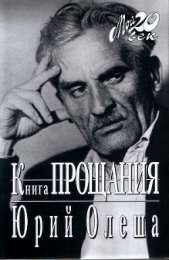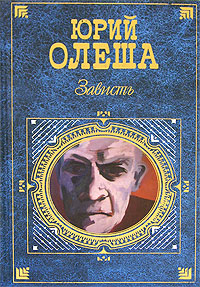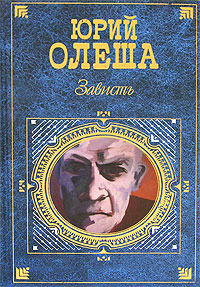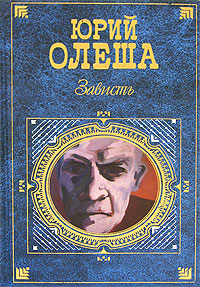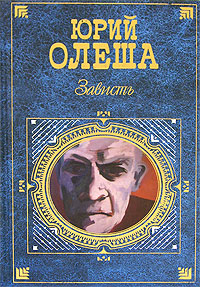Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Очень неприятно, что все спектакли наши разрешаются фронтами, т. е. что всегда благополучно стоит сцена и она повернута лицом так, что вы чувствуете, что все симметрично и параллельно. Стоит сцена, актер на нее выходит, и у актера есть тяготение к симметрическому благополучию. Я заметил, что и у нас актер, когда выходит на середину, он обязательно найдет абсолютный центр, с которого он говорит, т. е. он рассчитывает налево и направо, и там и здесь у него остается одинаковая часть, он попадает в середину и жарит. Это стремление почувствовать точку такую, как в ватерпасе, где бегает пузыречек, прибежал к середине, значит, правильно. А почему это происходит? Потому что если у актера такое стремление найти абсолютный центр, то и у зрителя бывает равновесие. Такое равновесие не нужно для данной вещи. Для данной вещи, может быть, как раз нужно, чтобы не было равновесия, и нам кажется, тем, кто задумывался над оформлением этого спектакля, /нужно/ чтобы эта пьеса не воспринималась как пьеса равновесия, а воспринималась как постоянное нарушение равновесия, потому что в этой пьесе все время борются два начала, все время происходит какая-то борьба. Поэтому хочется идти по пути постоянной деформации, непривычной для нашего глаза.
Попробуем повернуть сценическую площадку таким образом, чтобы зритель занял правый сектор, и идти от левого сектора. Но мы не хотим, чтобы /зрители/ перебегали слева направо, нам это тоже неудобно, потому что это внесет беспорядок в театр и придется вызывать милицию. Значит, мы думаем: надо так построить, чтобы было удобно зрителю и в левом секторе, и в правом секторе, а актера нужно убедить, что, если на тебя смотрит человек сбоку, пусть посмотрит сбоку, зачем поворачиваться к нему лицом. Например, «Последний решительный» приятно смотреть из зрительного зала, но гораздо приятнее смотреть сбоку.
Мне сбоку смотреть интереснее, потому что лицо не на меня обращено. Вот почему мы сейчас на репетициях посадили режиссера сюда (показывает чертеж), а актера заставляем показываться режиссеру спиной. Потому что, когда актер показывает лицо, он как будто позирует, и эта привычка у него может остаться. Это одно замечание.
Второе замечание: у нас обыкновенно делается так (особенно в этом грешен Малый театр): он сказал — я понимаю, что такое конструктивизм, это чтобы не было наверху п/адуги/ и чтобы можно было на сцене показывать не целое, а часть, но показывать часть, пользуясь вращающейся сценой. То комнату, то часть комнаты, то коридор, то площадь. Это же в Московском Художественном театре мы замечаем в «Хлебе» [300]. Но когда они показывают часть, то видно, что прием натуралистический начинает довлеть, так что получается не конструкция, а обыкновенная декорация, только взят прием конструктивный, прием школы конструктивистов, и сюда как-то приложен в том смысле, что вот частичка комнаты, вот каюта и т. д., и все это тоже натуралистического порядка. Получается, в сущности говоря, невероятный эклектизм.

В нашем театре привыкли к тому, что нет декораций, нет конструкций. В «Последнем решительном» повешено что-то белое. Ну какой же это конструктивизм? Мы не говорим о том, хорошо ли это или плохо, мы не вдаемся в оценку этой стороны, нам важно констатировать, что оформлявшие спектакль стремились заявить зрителю, чтобы он наверх не смотрел, там висит что-то белое и больше ничего, что внизу для каждого данного случая какие-то загородочки, возвышеньица, чтобы актеру было удобнее выйти фронтально, а в другом случае немного в профиль. Ну, словом, не разберешь, что это — мостик или конвейер. Вообще такого конвейера не бывает, как у нас, потому что ящики у нас уезжают и потом опять приезжают. Получается что-то такое странное. Построят задник из картона, стучат деревянными молотками, одним словом, бутафория, ну вот как кусок угля, который повесили против Московского Совета. Милиционеру одному скучно стоять, так ют, чтобы ему не было скучно — повесили такую штучку. Мы этого не хотим. Надо на сцену дать что-то такое, что бы внесло известное беспокойство, раздражение. Если зритель запутается и сразу не разрешит, будет некоторое раздражение, как тот клей синдетикон Маринетти, который предлагал стулья для зрителей намазать клеем, для того чтобы перед началом футуристического спектакля было несколько скандалов. Дамы в парадных туалетах садятся на стулья, намазанные синдетиконом, туалеты прилипли к стульям, и скандал неизбежен. Вызывают администратора, начитаются объяснения. Те, которые беспокоятся за свои платья, не будут на спектакле, потому что, пока будет составлен протокол, потерпевшие будут отсутствовать…
И здесь есть ряд лиц, которые поднимают скандал, и в этой разодранной атмосфере они показывают свой спектакль. Я не говорю, хорошо это или плохо, но иногда человека, пришедшего на спектакль, нужно сбить с состояния покоя: занавес раскрылся, там сукно и т. д. Нет, пусть он думает, зачем такие элементы стоят на сцене. Он повернулся, насторожился, заволновался, и это дает возможность разговаривать с ним на другом языке.
Второй элемент (так можно сказать) — это приготовить сценическую площадку, чтобы она была удобна для того, чтобы, с одной стороны, режиссер уточнял мизансцены, которые являются нотами, по которым публика читает суть дела. Это аллегорические знаки, по которым публика читает то, что происходит на сцене. Например, так Мартынов [301], Сергеев [302], когда укладывают Боголюбова [303], то касаются Бушуева [304] и делают движение. Что это означает? Это означает — будить человека. Значит, я сделал движение, а публика уже знает, что оно значит. Запас этот зритель имеет из действительности, он знает, как будят человека, что человека хлопают по голове, чтобы вытолкнуть, обнимают и т. д. Если актер это делает, зритель отлично знает, что он этим хочет сказать, и актер может не говорить слов. Мизансцены этим делом и занимаются. Так как время в спектакле очень ограничено, надо в течение двух с половиной часов показать мировые события, то мы ограничены не только тем, что сигнализируем словами, но и движениями, потому что можно не сказать большую фразу, а сделать движение, и зритель это понимает.

Вот тогда мы ускорим это дело. Это все равно, как бывают телеграммы-молнии и телеграммы, медленно идущие, телеграммы в деревню, когда их везут на подводе за шестьсот верст. Ясно, что в этом случае телеграмма перестает быть телеграммой. Поэтому мы торопимся сообщить зрителю все, что нужно, в течение двух с половиной часов словом, движением, светом, музыкой и т. д. Актер говорит серьезный монолог, а для того, чтобы он прозвучал иронически, вводят музыку. И публика говорит — а, раз музыка, то мы знаем, к чему это клонится, раз музыка — то это подозрительно. Девушка с голубем говорит печальный монолог. Если бы она просто говорила, держа голубя в руке, и не было бы музыки, публика /бы/ не поняла, что ей нужно настроиться сентиментально, а когда вводится музыка, публика начинает понимать, что тут сентиментальная нирвана разлита. Тут много имеется элементов, которые подталкивают это движение и слово. Зритель в два с половиной часа получает больше, чем нужно получить. Он получает все, что нужно, плюс многое такое, что и не должно быть внесено. Но внесением этих элементов мы уплотняем материал.
Первая наша задача заключается в том, чтобы устранить все глупейшие, идиотские ненормальности, обуславливающиеся идиотской сценой-коробкой. Все это надо упразднить. В пьесе, которая построена на словесном материале, автор так уплотняет этот словесный материал, чтобы каждая фраза била в цель, ибо «у меня каждое слово, — как говорит автор, — имеет значение». Поэтому нужно создать такую обстановку, чтобы в сценической коробке была хорошая акустика, чтобы каждое слово доходило до зрителя.