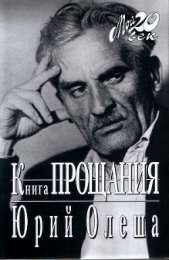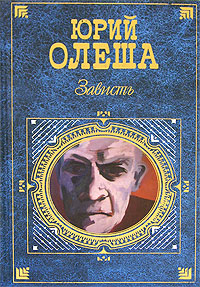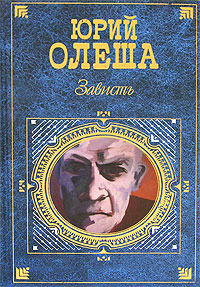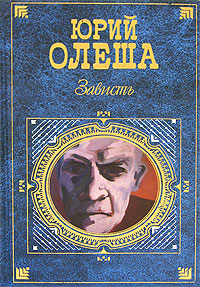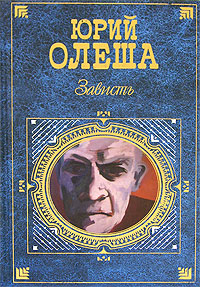Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Литовский делится и своим нестандартным представлением о том, что такое настоящий полемический задор и острая дискуссия. «Острая дискуссия» — это если некто, выдворяемый капельдинером из-за нарушения правил приличия из партера лондонского театра, кричит ему: «Сволочи, ЧК на вас нет!» Затем оратор предлагает изменить реплику Кизеветтера о том, что он не хочет «лить кровь из чужого горла» на прямо противоположную, перекликающуюся, скорее, с выступлением Вс. Вишневского о 100 000 расстрелов [438]. (И реплика в спектакле прозвучит так, как советует Литовский.)
Выполнив необходимую задачу — дав пьесе и спектаклю политическую оценку, далее Литовский говорит о художественных, профессиональных находках мейерхольдовского спектакля, заметим, никем более не затронутых. В частности, именно Литовский замечает новизну технологического решения спектакля.
Совершенно не случайно спор разгорается по поводу реплики Гончаровой о том, что она хочет «стоять в очереди и плакать». Оратор, представляющий Дорогомиловский завод, некто Остринская, возмущен: «Выходит, что понятие о Советском Союзе связано со стоянием в очередях. Это явление, конечно, есть, оно ненормально, оно временно <…> Я считаю, что эти слова надо выкинуть».
Отмечу еще одну важную тему, прозвучавшую на обсуждении: тему «лишнего человека» [439].
Напомню историю рождения этого определения.
Обозначение рефлексирующего героя, с явственным снисходительно-пренебрежительным оттенком, рожденное некогда тургеневским «Дневником лишнего человека», но укоренившееся благодаря обличительному перу социального публициста, оказалось весьма полезным отечественному литературоведению и получило широкое хождение. В скудном арсенале советской литературной критики, немало сил положившей на борьбу с индивидуализмом, «абстрактным гуманизмом», «гнилым либерализмом» и «отрывом от народа», это определение оказалось как нельзя более кстати. При этом противоестественность, вопиющая нелепость самого словосочетания (как человек может оказаться «лишним» — и это в литературе, имеющей в своих истоках творчество Пушкина, Гоголя, Достоевского) — будто бы не замечались. Уничижительное определение превратилось в квазитермин, точнее — на него были возложены терминологические обязанности — еще и из-за давности его функционирования. Временная протяженность его существования сама по себе становилась гарантом теоретической легитимности, состоятельности.
Напрашивающаяся параллель между образами Олеши и Тургенева обескураживала, так как подводила к выводам об устойчивом противостоянии общества мыслящему индивиду.
Еще один оратор, партийная чиновница Ильина [440], в замешательстве. Смущает ее неразрешимость проблемы отношения пролетариата к классическому наследию — из-за реальной противоречивости существующих идеологических установок. С одной стороны, «мы все-таки восхищаемся и изучаем классиков». А с другой — «получается, что действительно рабочий зритель не ценит настоящей литературы», «получается, что Шекспир нам не нужен…». За строчками стенограммы ощутимо напряжение мозга добросовестного партийного функционера, не могущего обрести ясности мышления в ситуации насаждаемого, но еще не ставшего привычным двоемыслия.
Обсуждение заканчивается вполне дружеской шутливой пикировкой Мейерхольда и Литовского.
Несмотря на то что многие выступающие отмечают неудачное решение, схематизм, шаблонность последнего акта (аморфную и неубедительную толпу безработных, вяло марширующих в финале), общее настроение — предвкушение удачи, успеха.
Всего через десять дней после премьеры (и через 12 — после обсуждений) отношение к спектаклю резко изменится. 14 июня будет напечатано письмо К. Радека. Влиятельный партийный публицист заявит, что «театр Мейерхольда повернул не туда, куда следует», а авторы его опоздали с пьесой и спектаклем на пять или даже десять лет. Логика Радека проста; если считать капитализм безусловным злом, то все, что совершается во имя социализма, — уже благо. «Приходится расстреливать людей», — соглашается Радек, но расстреливающие считают расстрелы не благом, а лишь «неизбежностью». Другими словами, в статье Радека звучит основной лозунг большевистской революции: цель оправдывает средства. Что же касается резонанса спектакля, то и Радек не скрывает, что «Список» имеет зрительский успех. Собственно, не будь этого успеха, вряд ли «Известия» вообще обратили бы внимание на спектакль.
К этому времени уже назначены дни общественных диспутов о премьере Мейерхольда, разосланы приглашения участникам. Но их выступления теперь будут учитывать мнение К. Радека, к статье которого будут апеллировать ораторы.
16 июня 1931 года пройдет дискуссия о «Списке благодеяний» в ФОСПе. Она продемонстрирует резкую смену оценки и спектакля и пьесы. Теперь пьеса квалифицируется как «политически вредная», «шаг назад» и Олеши, и Театра им. Вс. Мейерхольда. Характерно при этом, что Мейерхольда словно пытаются отделить от Олеши незримой чертой. (Замечу, что сходным образом писали и по поводу спектакля «Дни Турбиных» во МХАТе, вина за идеологические просчеты которого возлагалась на одного лишь автора пьесы — Булгакова.) В обоих случаях формулы были одними и теми же: режиссер «пошел за автором», поддался его дурному влиянию.
Основной докладчик, В. М. Млечин [441], полагает, что Мейерхольд напрасно «пошел за драматургом» и оттого не справился с большими и важными задачами спектакля. Оправдание же пьесы видит в том, что автор хотел разрешить проблему «третьего пути» интеллигента. В конечном счете Млечин поддерживает точку зрения Радека, заявив, что пьесу нужно было написать «три года назад».
Со статьей Радека солидаризируется и А. Р. Орлинский, чье выступление подытоживает предыдущие обсуждения пьесы. В нем повторены все центральные темы: проблема «лишнего человека» и проблема очередей, Рамзины и «колеблющиеся» интеллигенты, попутчики и их перестройка. Орлинским же, по-видимому, точнее всего объяснено, что именно всерьез насторожило цензурные органы после выхода спектакля на публику: «Пьеса всколыхнула <…> какие-то настроения <…> Такие пьесы в политической, классово заостренной среде вызывают особенно резко настороженное, внимательное отношение». Орлинский оценивает пьесу Олеши как «фальшивую» и «лживую», а спектакль — как «реакционный шаг назад», сделанный Мейерхольдом.
Итак, если сначала на обсуждениях признается, что пьеса талантлива, заставляет размышлять и тем полезна, то после премьеры и высказывания официального мнения партийным публицистом оценка меняется на прямо противоположную: пьеса не разоблачает, не мобилизует, идеологически вредна и делает неверные акценты. Но не менее важно отметить, что среди выступающих нет единодушия. Кто-то пытается возразить против резкой оценки спектакля как «реакционного шага назад», полемика еще возможна — пусть в устных, но публичных обсуждениях.
Смешно или грустно, но нельзя не заметить, что на диспутах будто материализуются образы авторов записок из пролога спектакля, почти буквально воспроизводятся не только мысли, но и словесные формулы, существовавшие в черновых набросках Олеши к пьесе. «Так не бывает», — заявляют те, о ком идет речь в мейерхольдовском спектакле. Вновь, как в мольеровские времена, «оригиналы запрещают копию» (как писал Мольер в прошении королю по поводу попыток уничтожить «Тартюфа»).
Выступления большинства обсуждающих производят впечатление беседы средневековых схоластов: схематично и клишированно мышление докладчиков, суконен и примитивен язык. (А существительное «вопрос» в речи одного из них, В. Ф. Залесского, употребляется буквально через слово, так, что невольно вспоминаешь реплику профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца», который, выслушав бессвязную речь посетителя с многократным обязательным упоминанием того же «вопроса», раздраженно-иронически осведомляется: «Так кто же на ком стоял?»)