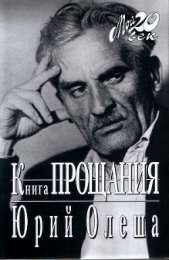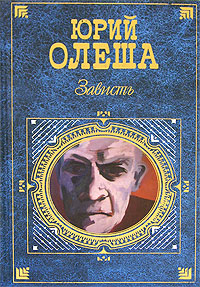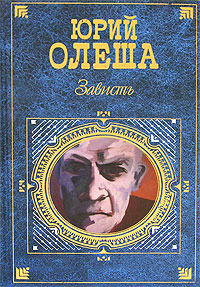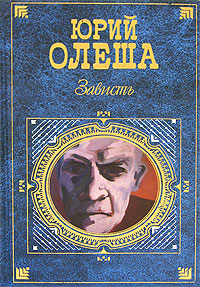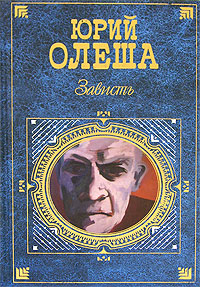Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний "

Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем "Список благодеяний " читать книгу онлайн
Работа над пьесой и спектаклем Список благодеяний Ю. Олеши и Вс. Мейерхольда пришлась на годы великого перелома (1929–1931). В книге рассказана история замысла Олеши и многочисленные цензурные приключения вещи, в результате которых смысл пьесы существенно изменился. Важнейшую часть книги составляют обнаруженные в архиве Олеши черновые варианты и ранняя редакция Списка (первоначально Исповедь ), а также уникальные материалы архива Мейерхольда, дающие возможность оценить новаторство его режиссерской технологии. Публикуются также стенограммы общественных диспутов вокруг Списка благодеяний, накал которых сравним со спорами в связи с Днями Турбиных М. А. Булгакова во МХАТе. Совместная работа двух замечательных художников позволяет автору коснуться ряда центральных мировоззренческих вопросов российской интеллигенции на рубеже эпох.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кизеветтер падает на диван, заплакал, уронил револьвер — Татаров выходит.
Как только вышла женщина, полицейские повернулись, оба вышли, подходят к ней, смотрят на нее. Они думают, что это публичная женщина, для них это целая авантюра, для них этот протокол очень интересен.
После слов: «Из-за женщины?» — Бочарников делает ход к Кизеветтеру, возвращается, смотрит на Лелю, говорит: «Из-за вас?»
Бочарников инспирирует Кизеветтера, делает его героем. Монолог Бочарникова должен прозвучать пышным монологом на всю сцену.
«Ваша любовница?» — скабрезно. Интимная сцена.
Когда Леля крикнула: «Негодяи, негодяи!» — она незаметно для публики делает ход назад, чтобы был длинный ход.
После: «Пешком» — Мартинсон бежит к ней и удерживает ее.
Ремизова пришла, говорит. Он /Татаров/зашагал, он не ожидал, что она придет, он боится, что она заглянет туда, где Леля. Ходит по диагонали от лампы до статуи.
Ремизова берет платье опытными руками, бросает на круглый стол, говорит: /«Я принесла вам цветы»/. Берет букет жасмина, несет за занавеску. Когда Ремизова побежала к Леле, он боится, что опять начнется черт-те что и опять будут вламываться коридорные.
Леля убегает, мечется, мечется. Ремизова за ней. Ремизова падает на диван — устала.
Ремизова: «…а, гадкий утенок…» — лицемерно-ласково.
После ударов у нее некоторая реакция, она хотела дать третий удар, но бросает букет.
4 мая 1931 года.
<i>«У Татарова».</i>(Леля — Райх, Татаров — Мартинсон, Кизеветтер — Кириллов)./Полицейские — Бочарников, Карликовский/.Монолог Татарова должен быть очень стремительным.
Пьеса тем трудна, что везде есть у актеров стремление, свойственное самому Олеше, к замедлению. Эта природа к замедлению мешает.
Татаров все время сыплет. Эта сцена должна производить впечатление бурлящей сцены. Выгодно было бы, чтобы вы не курили — и начали курить.
Леля вошла, идет сцена, Татаров идет, после: «Вы обижены на меня?» — берет папиросу и закуривает.
«Приведут в комендатуру…» — у него цинизм Аксенова [407]: Татаров весело говорит страшные вещи. На лице должна быть улыбка, и вся поза веселая. Вы рассказываете о том, что у вас перспектива сидения на коне власти. У вас должна быть поза мании величия. Как он курит, как он смеется — он у себя дома. Она пришла к нему, вы не ошиблись. «Я лягу на диване…» — мы знаем, что это значит. У вас должно быть многообразие игры — и то, что вы получите портфель, и, кроме того, вы перед женщиной позируете. Он хочет из себя разыграть некоторую величину. Вы котируетесь на бирже высоко. Говорит он, не сгибаясь, принимает позу Наполеона.
«Теперь вы…» — через плечо говорит (тушит в пепельнице папиросу). Это такая игра с папиросой, он давно ее потушил.
Леля тоже идет, делает большой круг. Идет, потом на какой-то фразе опускается, берет тормоз.
Идет мимо двери, она (Леля) останется у вас ночевать. Вы спокойны, запер дверь на ключ, тогда страшнее будет револьвер.
«…пожмете руку» — эта сцена напоминает ту, когда она дает руку Финкельбергу и /они/ долго жмут руки. Татаров тоже трясет руку, тогда эта сцена перекликнется с той.
«…неся розы в папиросной бумаге…» — чем пышнее будет эта сцена, тем неожиданнее будет: «Стань к стенке, сволочь!»
«Стань к стенке, сволочь!» И — прежде она должна увидеть его в глаза, а потом револьвер.
Татаров сперва хватает за руку с револьвером, а потом старается вырвать револьвер.
У Кизеветтера, когда он говорит: «/Я сделаюсь вором и убийцей/», должна быть тональность, как тогда: «Делайте войну!» Это типичный Достоевский.
Мартинсон крадется к Леле и Кизеветтеру, который держит ее за ноги, он боится, что Кизеветтер выстрелит. Сперва он крадется, а потом оттягивает Кизеветтера Когда Мартинсон изолировал их, Леля бежит к дивану, а потом к фигуре. Она растерянна, она мечется, как бывает — во время пожара лезут в печку, а не в дверь.
Хорошо было бы, чтобы вы (Кириллов), когда говорите: «Я нищий», — одной рукой расстегнули воротник, это напомнит сцену: «У меня нет галстука».
После выстрела у него (Кизеветтера) реакция, /он/ рыдает.
После выстрела Мартинсон выдвинулся, как будто вас на колесиках выдвинули. Потом папироса, спички и: «Эпилептик». У него руки трясутся, а говорит просто.
Кизеветтер постоял, уже готовится всхлипывать, после «Эпилептик» — всхлипывает. Здесь главное — техника. Чем меньше чувства, тем лучше выходит. У него истерика от того, что он не попал. Досадная ошибка. Эта сцена истерики требует техники. Если эту сцену провести мастерски технически, то она дойдет. Нам нужно показать, что вы абсолютно не способны на истерику, но вы ее умеете показать.
После стука Татаров ликвидирует его истерику, стукнув Кизеветтера по спине.
Татаров показывает ей револьвер, спрашивает: «Откуда?» — потом замечает гравировку, говорит: «На нем гравировка», — подходит к свету, читает.
Когда Мартинсон идет класть револьвер, она уже направляется к двери: «Меня никто не посылал». И хочет уже уйти. Леля стоит около двери и пробует ручку двери. Татаров идет вдоль стола, немножко издали, потому что боится ее напряжения. Леля посмотрела на одного, на другого, потом идет, руки держит впереди, садится на стул, холодно смотрит и говорит, как Святой Себастиан. Поэтому нужно холодно. Странное напряжение, без спадов.
«Из револьвера, принадлежащего…» — как бы «a part». Она неподвижна, у нее скованность, а у вас — раз, раз!..
Выход полицейских.
Первый выходит Бочарников, немного позже Карликовский. Бочарников жесток и вместе с тем сердоболен. Он видит, что Кизеветтер лежит в позе больного, и сам подходит к нему, осматривает его, трогает его за плечо.
У полицейских свой мир взяток, в морду давать, у нас главное деньги, протокол — это вопрос формальности.
«Вы именинник?» — это остряк, он сам засмеется первым.
Бочарников, когда сел протокол писать, беря ручку, заметил револьвер.
«За это полагается каторга» — идет, держа в руке перо.
После того, как Бочарников инспирировал Кизеветтера, Карликовский подошел к нему и хочет сказать: «Дай ему в морду, Жан».
«Во всем виновата я» — большое изумление.
«Красть вообще нехорошо…» — наглая нотация, несмотря на то, что это женщина С Кизеветтером он был любезен, а с ней сугубо груб.
Когда Леля перешла на диван, Кизеветтер бросает место, проходит за стол, наливает стакан с водой и жадно пьет воду. Потом он присоединяется к полицейским, он ими уже куплен, он их агент.
«Итак, случай разучен…» — встает, раскланивается.
«Этот револьвер из советского посольства» — чтобы этот револьвер имел значение «письма Зиновьева» [408]. Так что необходимо положить его в портфель на глазах у публики, это имеет громадное значение.
4 мая 1931 года (Утро).
<i>«У Татарова».</i>/Кизеветтер — Кириллов, Татаров — Мартинсон, Трегубова — Ремизова, Леля — Райх/.Кизеветтер вошел, смотрит, эта сцена — концовка к сцене.
Леля делает свое движение после второго раза: «Отдай револьвер».
Мартинсон в борьбе с Лелей не должен расставлять ноги. Вся сила в руках должна быть.
Кизеветтер им мрачно говорит. Не надо Ромео и Юлии. Он мрачно и тяжело говорит, и никакой сентиментальности.
Кизеветтер стоит, вырвав револьвер, у дивана, говорит. Публика не должна заметить, как он пододвинулся, она должна так сосредоточенно вас слушать, что не замечает, когда вы придвинулись к Леле.