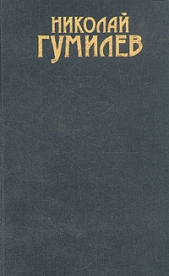«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии

«Стихи мои! Свидетели живые...»: Три века русской поэзии читать книгу онлайн
Это не история русской поэзии за три века её существования, а аналитические очерки, посвящённые различным аспектам стихотворства — мотивам и образам, поэтическому слову и стихотворным размерам (тема осени, образы Золушки и ласточки, качелей и новогодней ёлки; сравнительный анализ поэтических текстов).
Данная книга, собранная из статей и эссе, публиковавшихся в разных изданиях (российских, израильских, американских, казахстанских) в течение тридцати лет, является своего рода продолжением двух предыдущих сборников «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997) и «От слова — к мысли и чувству» (Алматы, 2008). Она предназначена как для преподавателей и студентов — филологов, так и для вдумчивых читателей — любителей поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так закончилось XIX столетие — «золотой век» русской культуры, и на смену ему пришел ХХ — Серебряный.
Серебряный век
ХХ в. принес в русскую поэзию новые художественные приёмы, обновление поэтического языка, новые воззрения на искусство. Но сначала завершителем классических традиций выступил И. Бунин, в первых стихах которого слышались никитинско-надсоновские отзвуки: поэт — «бедняк, задавленный нуждой», «измученный скорбями», умирающий от голода, а на его могиле крест цветами перевьют («Поэт», 1886). Затем в духе «чистого искусства» лирический герой «на высоте, на снеговой вершине» вырезал сонет для избранных, не для толпы, живущей в долине («На высоте…», 1901). В зрелости Бунин придёт к мысли, что суть и смысл поэзии — «в моём наследстве», ибо «нет в мире разных душ и времени в нём нет», т.е. художник вбирает и объединяет в своём творчестве достижения пращуров и чувствует себя наследником всех эпох. Впоследствии эти же идеи, но по-своему выразит О. Мандельштам: «Я получил блаженное наследство, / Чужих певцов блуждающие сны».
Теоретиком и практиком нового литературного направления — символизма, провозгласившего основой искусства символику и ассоциативность, был В. Брюсов. В начале своего творческого пути он сформулировал три постулата — жить не настоящим, а грядущим; никому не сочувствовать, а полюбить лишь себя; поклоняться искусству, «только ему безраздумно, бесцельно» («Юному поэту», 1896) и трактовал творчество как подсознательное состояние полусна-полубреда со странными ощущениями и видениями (несозданные создания колыхаются во сне, «фиолетовые руки» «полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине» — «Творчество», 1895). Но сам он не всегда следовал этому кредо и то заявлял, что всем богам посвящает стих, то заверял, что «поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, и песня с бурей вечно сестры», а себя именовал «песенником борьбы» («Кинжал», 1903 — ср. с Лермонтовым). А ещё через несколько лет посоветует стихотворцу быть «холодным свидетелем» всего происходящего в мире.
Однако позже поэт признавался, что «каждый трепет, каждый вздох счастливый вместить стремился в стих» («Поэт — Музе», 1911) и настаивал на том, что черпает вдохновение в «звуках жизни и природы»: «Я ветру вслух твердил стихи. <…> Просил у эхо рифм ответных» («Ученик Орфея», 1918), связывая свое творчество с природными силами и реальной жизнью. Эти брюсовские метания, перемены в эстетических вкусах и взглядах на искусство были вызваны как требованиями времени, так и внутренними противоречиями, духовными и художественными исканиями самого поэта, который даже как-то сказал, что устал «от смены дум, желаний, вкусов, от смены истин, смены рифм в стихах» и от собственного «Я»: «Желал бы я не быть «Валерий Брюсов» (1902).
Кстати, будучи поэтом мысли, Брюсов в конце жизни пытался создать научную поэзию, о чем в XIX в. мечтал Огарев («Хочу стихи связать с наукой»), имея в виду философию, Брюсов же подумывал о точных, естественных науках («Мир электрона», «Мир N измерений», 1922, 1924).
Символисты признавали Брюсова своим идейным вождём и воспринимали у него разные аспекты его творчества.
З. Гиппиус, к примеру, декларировала таинственность творческих снов: «Я — раб моих таинственных, / Необычайных снов… / Но для речей единственных / Не знаю здешних слов» (1896). И, как Брюсов, объявляла о своей приверженности к классическому стиху, «напевным рифмам», стройным строфам, похожим на «храма белого колонны» («Белый стих», 1915).
Поэзии К. Бальмонта была свойственна импрессионистичность («только мимолётности я влагаю в стих»), одновременно ему нравились «кинжальные слова», и он сравнивал себя с кузнецом («я стих кую»). Но в отличие от Брюсова Бальмонт отказывался размышлять над стихами («Как я пишу стихи»). Рекламируя краткость («Лучший стих — где очень мало слов»), он на самом деле был автором многословным и произносил хвалебные речи в честь себя, любимого:
Однако в зрелости поэт станет скромнее оценивать свои творческие достижения: «старинный крепкий стих, не мною созданный, но мною расцвеченный» («Приветствую тебя…», 1923).
Младшие символисты адресовали своему учителю Брюсову послания и восторгались его духовностью и мастерством: «твой стих победный», «твой зорок стих, как око рыси» (В. Иванов, 1903); «В строфах — рифмы, в рифмах мысли / Созидают новый свет» (А. Белый, 1904); «Твой дух таинственный… велит к твоей мечте единственной прильнуть» (А. Блок, 1912). И В. Иванов относил себя к «поэтам духа» («Мы — Вечности обеты / В лазури красоты»), свой напев называл «светозарным», а свою поэзию «моей золотой сестрой» (ср. с некрасовской «сестрой народа и моей»). И ничего не желал менять в том, что слагал, так как «открыта в песнях жизнь моя» («Мирные ямбы», 1913).
Таинственны, туманны и абстрактны были призывы А. Белого к поэту говорить о «неслыханном полете столетий», о «безумье миров», о «смеющейся грусти веков, о пьянящих багрянцах» («Огонечки небесных свечей…», 1903) и его отзывы о своей поэтической речи: «Мои слова — жемчужный водомёт», «капризной птицы лёт, туманом занесённый» («Мои слова», 1901). И сам он сознавал, что не понят людьми, но верил, что с ним «бирюзовая Вечность».
Самый крупный поэт Серебряного века А. Блок выстроил свою жизнь и творчество как «трилогию вочеловечения», как «путь от личного к общему» — через испытания, утраты, отчаяние, проклятия — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо мира. От первого тома к третьему изменяются и блоковские оценки собственных творений, претерпевая значительную эволюцию. В первом автор словно блуждает в потёмках и сомнениях: «Полон страха неземного, / Горю поэзии огнём», «Чего желать? Куда идти?» Есть ли у него поэтический дар? Что это — «пророческие стихи» или сумрачные и печальные песни, в которых «звук нестройный», «дум неясные штрихи» и «неведомые созвучья»?
К концу первого тома к юноше приходит понимание, что он «не певец весёлых песен», но вечно плакать не может (1902). И он испытывает гордость, что открывает «грани стиха» у подножья торжества Прекрасной Дамы, в образе которой, подхваченном у В. Соловьева (мистический символ Вечной Женственности), скрывались реальные черты земной женщины — невесты и жены Блока Л.Д. Менделеевой.
Если первый том — это узнавание автором самого себя и своей любви (Я и Ты), то второй — знакомство с другими людьми (вы, он, она, они): «И каждый звук был вам намёком / И несказанным — каждый стих» («Тишина цветет», 1906). В стихотворении, посвящённом 15-летней гимназистке Лизе Пиленко, он характеризует себя как сочинителя, не живущего подлинной жизнью.