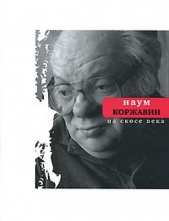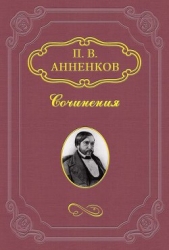От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа

От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа читать книгу онлайн
Центральная тема книги – судьба романа «сервантесовского типа» в русской литературе XIX—XX веков. Под романом «сервантесовского типа» автор книги понимает созданную Сервантесом в «Дон Кихоте» модель новоевропейского «романа сознания», в том или ином виде эксплуатирующего так называемую «донкихотскую ситуацию». Уже став «памятью жанра» новоевропейского романа, «Дон Кихот» оказался включенным в состав сложных многожанровых конфигураций. Поэтому читатель найдет в книге главы, в которых речь идет также о пикареске (так называемом «плутовском романе»), о барочной аллегорической «эпопее в прозе», о новоевропейской утопии, об эпистолярном романе, немецком «романе воспитания», французском психологическом романе. Модернистский «роман сознания» XX века, представленный на Западе творениями Пруста, Джойса, Кафки, Унамуно, в дореволюционной России – прозой Андрей Белого, в России послереволюционной – антиутопиями Замятина и Платонова, прозой А. Битова, наглядно демонстрирует способность созданного Сервантесом жанра к кардинальным трансформациям.
Книга адресована критикам и литературоведам, всем интересующимся теорией и исторической поэтикой романа, русским романом в западноевропейском литературном контексте.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но «Дон Кихот» остался Бахтиным не прочитанным. На словах неоднократно чрезвычайно высоко оценивавший роман Сервантеса и его роль в истории жанра романа, Бахтин нигде развернуто о нем не высказывался37. Исключение составляет его суждение о Дон Кихоте и Санчо в «Творчестве Франсуа Рабле…»38, где, следуя предложенному Г. Лукачем прочтению «Дон Кихота»39, Бахтин интерпретирует творение Сервантеса как карнавальное всенародное обличение индивидуалистической «правды» рыцаря Печального Образа, то есть исключительно как мениппову сатиру, полностью игнорируя христианско-гуманистический – собственно романный – аспект сервантесовского замысла.
Не разглядев личность в герое романа Сервантеса, в поисках индивидуальности, которая должна предшествовать герою-личности полифонического романа, Бахтин – судя по «Дополнениям…», намеревался обратиться к трагедиям Шекспира, в каковых усматривал воплощение «глубинной трагедии самой и н д и в и д у а л ь н о й (выделено автором. – С. П.) жизни, обреченной на рождение и смерть, рождающейся из чужой смерти и своею смертью оплодотворяющей чужую жизнь…»40. Но это – индивидуальная жизнь, воссозданная «во внешних топографических координатах»41. В силу самой природы сценического действа «человек внутренний» у Шекспира – сплошь овнешнен (отсюда – такой интерес Бахтина к жестам в театре Шекспира!). И в этом смысле герои Шекспира (не один Фальстаф!) по-своему близки персонажам Рабле.
Шекспир трагичен и одновременно по-карнавальному комичен. Как истинный лицедей, несерьезен по определению. Хотя и – серьезен в каком-то особом, высшем смысле слова. В архиве Бахтина сохранилась запись, в которой трагедия (Софокла, Шекспира) и смех (конечно же, карнавальный, соборный) функционально уравниваются: «И трагедия и смех одинаково питаются древнейшим человеческим опытом мировых смен и катастроф (исторических и космических), памятью и предчувствием человечества, отложившимся в основном человеческом фонде мифа, языка, образов и жестов. И трагедия и особенно смех стремятся изгнать из них с т р а х (здесь и далее выделено автором. – С. П.), но делают это по-разному. С е р ь е з н о е мужество42 трагедии, остающейся в зоне замкнутой индивидуальности. Смех реагирует на смену весельем и бранью. И трагедии и смеху одинаково чужды и враждебны моральный оптимизм и утешение… всякие скороспелые и куцые «гармонии» на наличном материале… И трагедия и смех одинаково бесстрашно смотрят в глаза бытию, не строят никаких иллюзий, трезвы и требовательны»43.
Иное дело – роман. Сотворение иллюзий и их разоблачение – его «магистральный сюжет» (Л. Е. Пинский) со времен Гелиодора. Поздний Шекспир – создатель «Перикла», «Бури», «Цимбелина», «Зимней сказки» – также обращается к этому «романному», точнее, «романическому» (как производное от romance) сюжету, естественно, используя романические (взятые из эллинистических любовных романов) образы и фабулы. Но не этот, романизированный (и поэтому столь популярный в XX веке Шекспир), а Шекспир – создатель пьес, отвергающих «гармонию» на наличном материале», творец великих трагических героев, значим для Бахтина.
Однако провести линию развития романной традиции от Рабле к романисту Достоевскому через Шекспира (даже с опорой на Гоголя44) значительно сложнее, чем прочертить линию: Рабле – Сервантес – Достоевский. Сходство Сервантеса и Рабле с точки зрения истории жанра менипповой сатиры очевидно: и «Гаргантюа…», и «Дон Кихот» – пародии на эпос (хотя «Дон Кихот» – и об этом говорилось немало – значительно больше, чем пародия). Сервантес, как и Шекспир, пятикнижия Рабле не знал, но и у него, и у Рабле – не только общая «материальная» почва (городской карнавал), общий духовный отец – Франциск Ассизский45, и общий «идейный» наставник, да и литературный, предтеча – Эразм Роттердамский, создатель блистательной мениповой сатиры «Похвальное слово Глупости». Настольной книги испанских эразмистов, в числе которых был и Сервантес46.
Но было бы неверным определять жанр «Дон Кихота» именно – и только – как «мениппею» (и, тем более, как мениппову сатиру), отказывая «Дон Кихоту» в праве именоваться романом47. Будучи образцовой, классической, как это ни парадоксально звучит, мениппеей, в которой присутствуют все признаки жанра по классификации Бахтина, «Дон Кихот» – больше, чем мениппея, при том что «мениппова сатира» – важный, не менее существенный, чем рыцарские романы48, интертекст сервантесовского романа. И, естественно, литературной почвой49, на которой он возник, явились, с одной стороны, расцвет рыцарской романической эпики в ренессансной Испании, с другой, – почти тотальная переориентация испанской гуманистической словесности на опыт Эразма, подкрепленная восходящей к XIV веку национальной традицией (достаточно вспомнить насквозь карнавализованную, с участием самого Карнавала как действующего лица, «Книгу благой любви» Хуана Руиса), многоязычием и поликонфессиональностью испанской средневековой культуры. Мениппейной традиции так или иначе причастны почти все нарративные и диалогические жанры испанской литературы XVI–XVII веков, оппонирующие «книгам о рыцарстве», официальной историографии и государственно-одической эпике. Это – и «нарративный мим» (термин О. М. Фрейденберг) «Селестина» Ф. де Рохаса, с шлейфом его испанских и португальских подражаний-продолжений, и «Часы государей» и «Домашние письма» А. де Гевара, и пародийные стихотворные энкомии Г. де Сетина, и нарративный фантастический диалог так называемого «лукиановского» типа (от «Погремушки» и «Диалога о превращениях» К. де Вильялона до «Новеллы о беседе собак» Сервантеса»), и так называемый «пасторальный роман», и «Жизнь Ласарильо с Тормеса», и его первое продолжение – «Ласарильо-тунец», и такие образцы пикарески, как «Плутовка Хустина», «Бускон» Кеведо (да и его «смеховая» проза в целом), «Хромой бес» Луиса Велеса де Гевара… И, наконец, «Критикон» Б. Грасиана, венчающий барочную линию развития мениппеи на испанской почве50.
В жанровом отношении (то есть в аспекте типологии) «Критикон» читается как парадоксальное продолжение / опровержение «Гаргантюа и Пантагрюэля»: «эпопея-мениппея»51 Грасиана также представляет собой аллегорическое повествование о воспитании идеального человека-мудреца, о пути человека к бессмертию, хотя герои Рабле обретают в его в «вине» (бесконечно-многозначном символе!), а герои Грасиана – в чернильном море, омывающем Остров Бессмертия. Но при этом модус восприятия и воссоздания реальности, присущий сочинению Грасиана, диаметрально-противоположен тому, в границах которого Бахтин прокладывает путь к роману, описывая его как «прохождение эпоса через стадию фамильяризации и смеха»52.
В случае с Грасианом мы имеем дело с многовековой, восходящей, по крайней мере, к стоикам, традицией аллегорического переосмысления эпического материала. Область действия риторики – не истина (это – сфера философии, метафизики), а вероятное, помысленное. Повествование в «Критиконе» лишено статуса истинности, достоверности: их заменяют правдоподобие и поучительность, а мифопоэтические образы той же «Одиссеи» (заколдованные острова, великаны, чудовища, олимпийские боги…) воспринимаются наравне с персонажами позднегреческих «побасенок» как убедительный вымысел – носитель поучительных смыслов. Это приписывание эпиче ским образам и сюжетам новых моральных значений актуализирует эпос, разрушает его «абсолютную завершенность и замкнутость»53 и «эпопея», освобождаясь от мифопоэтического содержания и функций священного предания, превращается в romance, риторизируется. (Так аллегоризация и риторизация оказываются двумя сторонами одного и того же процесса.)
Одновременно риторическое «учительное» слово Грасиана утрачивает «пуповинную» связь с карнавальным смехом. Из области «серьезно-смехового» оно перемещается в область «остроумного», а значит – несмешного54, гротескно-безобразного. Грасиан эксплуатирует образность карнавальных действ и мотивы карнавализованной литературы, полностью их инвертируя, превращая из символов возрождения в знаки смертного распада55. Вовлечение человека в иллюзорное театральное представление под названием «Жизнь, полная услад» – жесточайшее над ним издевательство, изображенное Грасианом в аллегорической сцене посещения Критило и Андренио «всечеловеческого театра» (I, VII), где на сцене появляется плачущий нагой «человечек», чья жизнь – от рождения до смерти – проходит перед глазами «веселящихся зрителей подлого сего театра» (124–126). «Андренио, хлопая, хохотал над проделками хитрецов и глупостью человеческой. А обернулся, видит – Критило не смеется, как все, но плачет…"…