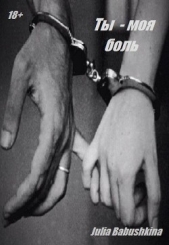Пастырь Добрый

Пастырь Добрый читать книгу онлайн
«Пастырь Добрый» — наиболее полное собрание творений праведного Алексея Мечева и воспоминаний о нём, составленное и прокомментированное Сергеем Фоминым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спросит: «Ходишь ли ты на беседы к о. Сергию?» — «Хожу». — «Непременно ходи».
Один раз останавливает: «Я слышал, как ты о. Сергию на беседе отвечал», — и смотрит такой довольный.
И вот издали, из–за других, почти незаметно, он вел тебя единственным путем, учил своей великой науке. И как радовался он, когда в какой–нибудь мелочи, в какой–нибудь черточке проскальзывало, что наука эта усвояется.
Один год я как–то особенно усиленно посещал разные московские храмы. Это было связано с большой затратой сил, своего рода было подвигом. Истощенный, голодный, после службы идешь вечером по страшной темной Москве пешком, без трамваев, куда–нибудь в Хамовники, в Кудрине, в Рогожскую — ко всенощной. Я считал это большой заслугой и как–то сказал об это Батюшке, думая, что он похвалит. Он только удивился. «А ты чего ходишь–то, чего ищешь?» Я так смутился, что не знал, что сказать. «Тебе что у нас не нравится, чего не хватает?» Наконец, решился сказать: «Пения». — «Ну вот, ты много ходишь по разным храмам, где же по–твоему поют лучше?» И я задумался. И вот все концертное пение показалось таким ненужным, фальшивым, несоответствующим великому таинству богослужения, и я мог назвать только один храм — Марфо–Марьинский. Батюшка так обрадовался, точно я выдержал какой–то экзамен: «Ах, Марфо–Марьинский, да, да, говорят, там хорошо поют, вот мне и Преосвященный Тихон все говорит, что хорошо, а мне все некогда, все хочу туда поехать. Ну вот и хорошо, хорошо».
Иногда он точно приоткрывал такой тайничок, точно впускал в свое сокровенное. Сам начинал учить. Один раз он рассказал мне о прилоге и о помысле. «Помни о прилоге, это тебе полезно знать и помнить». Один раз, когда я говорил о монастыре, приласкал меня и сказал: «А как, ты не пробовал Иисусову молитву. Ты бы и начинал к ней понемногу привыкать».
Уже изнемогающий, задыхающийся в последнюю зиму — его проводили по церкви. Только прикоснешься губами к рукаву его шубы. Он смотрит своими ласковыми глазами, а губы шепчут: «Отче Александре».
Последняя исповедь.
…«Не люблю, осуждаю, гневаюсь, завидую»… Он смотрит. Его глаза залиты слезами, он шепчет: «И это Александр, который был всегда такой любящий, такой терпеливый, такой кроткий, такой добрый!»
Батюшка, но когда же вы видели меня любящим, терпеливым, добрым? Или он плакал о том образе, о том первом Александре, которого я помутил своими грехами?
Я уходил. Он удержал меня:
— Почему ты не придешь ко мне?
Молчу. Ведь как объяснишь, что скажешь?
— Ты приходи. Придешь?
Молча отвечаю: «Приду». Но он обезпокоился:
— Нет, ты пообещай, что придешь ко мне.
Обещаю, Батюшка радуется. Радостный благословляет, радостный отпускает меня. «Ты приходи ко мне», — это его последние ко мне слова. Может быть, уже прозревая свою смерть, он, зная мою неустойчивость, хотел обещанием связать меня, чтобы я не отходил от него, не забывал его, чтобы я приходил к его могилке.
Когда я вернулся из Сибири [126], я первым делом, конечно, пошел на Маросейку к отцу Алексею. Многое меня смущало. У меня собственно не было никаких документов, кроме телеграммы Луначарского и отношения Поарм–5 о том, что такой–то откомандировывается в распоряжение тов. Луначарского.
Батюшка меня успокоил: «Все устроится. Будешь жить в Москве».
И действительно молитвами дорогого Батюшки все устроилось, как он сказал. Я остался в Москве. Демобилизовался. Получил документы. Стал опять жить с мамой и Варей, как жил до Сибири. Нужно было где–то служить. И это устроилось. Через Серафимовича попал в ЛИТО Наркомпроса.
Существовать литературной работой в то время было почти невозможно. Писатели приспособлялись кто как умел. Устраивались на службу в качестве секретарей, референтов, консультантов при театрах, издательствах, в профессиональных организациях.
В Москве стали открываться книжные лавки, где торговали писатели. Группа моих товарищей Ютанов [127], Ашукин [128], Ляшко [129] открыли летом 1921 г. такую лавку у Серпуховских ворот, под вывеской «Литературное звено». Они уговорили меня бросить ЛИТО и присоединиться к ним.
Это место меня устраивало. Это не была казенная служба. Начальство было всё свои хорошие товарищи, которые были мне нужны.
Все случившееся со мной на военной службе в Сибири и в пути туда и обратно, Божественная милость и помощь, получаемая там не один, а десятки раз, конечно по молитвам Батюшки, привязало меня прочно и навсегда, так я хотел думать, к Церкви и к тому пути, которым вел меня отец Алексей. Храм и богослужение сделались для меня жизнью, воздухом, без чего вообще жизнь мне не мыслилась. На Маросейке я бывал каждый день вечером за всенощной. Конечно, каждое воскресенье и праздники у Литургии. Все мои путешествия я совершал пешком. Два конца из Демидовского переулка к Серпуховским воротам да два конца, а, может быть, и четыре на Маросейку — это ежедневно. А ведь еще надо было помогать маме и Варе. Очереди в магазинах, рынок, поиски продовольствия. Жизнь была тяжелая, голодная. Питался я собственно тем, что мне мог предложить Ютанов. Он жил на Малой Серпуховке, недалеко от нашей лавки. И вот его старая нянька каждый день приносила мне в лавку немного холодной каши. Дома была пища повкуснее, но тоже очень скудная.
А к этому надо еще прибавить, что я соблюдал все посты, выполняя длительное и строгое молитвенное правило с тысячными поклонами. Я худел, слабел и наконец свалился.
Картина болезни быстро выяснилась. Высокая ежедневная температура до 39°. Кашель, который душил и разрывал мне грудь. Ужасные ночные поты. За ночь мама переменяла мне не одну, а две рубашки…
Друзья мои всполошились. Степан Павлович Галицкий [130], главный врач Сокольницкой больницы, лично посетил меня и внимательно осмотрел и не скрыл, что положение мое тяжелое. Он прописал мне полную неподвижность в постели, а затем посоветовал употребить все усилия, чтобы попасть в туберкулезный санаторий или больницу, так как наши домашние условия он нашел невозможными.
Горячее участие во мне принял отец Сергий. Он поручил сестре Павле держать его в курсе всего случающегося со мной, а сам начал изыскивать через многие связи какую–нибудь лазейку, чтобы добиться для меня приема и врачебного осмотра в одном из туберкулезных диспансеров. В те годы больных было множество и для осмотра надо было включиться в безконечную очередь, что крайне осложняло дело. А моей болезни шел второй месяц и положение мое было очень плохое.
Наконец стараниями отца Сергия устроилось, что меня вне очереди согласились принять в диспансере на Яузском бульваре (бывшая лечебница доктора Шимана). Павла стала подготовлять меня к этому осмотру.
Идти, конечно, надо было пешком. Меня все это страшило и волновало. Но я понимал, что это необходимо. Конечно, мы молились. Молились за меня и на Маросейке, молились все дома и сам я горячо молился.
И вот мы с Павлой пошли на Яузский бульвар.
Принял меня главный врач диспансера. Отнесся ко мне очень внимательно. Осмотр длился чуть ли не час. Я так от всего этого замучился, так устал, что домой пришел едва живой. Какой результат был от моего визита, что сказал доктор, — я уже ни во что не входил. Я сознавал, что дело мое плохо, чувствовал это по реакции моих домашних. Все кругом были страшно расстроены, и, как ни старались скрыть от меня свое горе, я видел, что все они, не переставая, плачут.