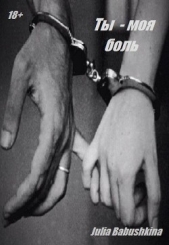Пастырь Добрый

Пастырь Добрый читать книгу онлайн
«Пастырь Добрый» — наиболее полное собрание творений праведного Алексея Мечева и воспоминаний о нём, составленное и прокомментированное Сергеем Фоминым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слово о. Алексея поражает своей объективностью — и по общему тону, и в частностях. Это именно слово автора не о себе, а о своей личности, рассматриваемой со стороны. Конечно, нередко пишут о себе в третьем лице; но хотя бы это лицо было не только третьим, а и сто третьим, все–таки оно остается загримированным Я, и от автора тянутся к нему безчисленные нервы и кровеносные сосуды личных пристрастий, вполне живые. Кто не почитает себя способным думать и говорить о себе объективно, однако не подозревая, что якобы объективным образом себя самого он пользуется как ширмою для сокрытия своего самого субъективного? Самое трудное, что есть на свете, — это думать и говорить о себе объективно: это труднее, чем умереть, потому что для объективности необходимо сперва умереть, а потом уже начать говорить.
Если бы о. Алексей написал тоном покаяния и окаевания о том, сколь грешным надо считать покойного; если бы он признал за ним весь каталог грехов; если бы свидетельствовал смирение, заранее соглашаясь со всякими упреками и не видя у себя ни веры, ни надежды, ни любви; если бы слово звало присутствующих попирать недостойный прах, — тогда некоторые усмотрели бы в нем истинную объективность и высоко оценили бы слово, ублажая смиренного батюшку и осыпая его градом похвал. Но на самом деле они обнаруживали бы такою оценкою лишь свою субъективность: не имея возможности хвалиться сколько–нибудь правдоподобно, большинство спешит к преувеличенному самоуничижению, но с непременным требованием, чтобы все поступали так же, и в тайной надежде, что когда все вымажутся неграми, и притом многие будучи заведомо белыми, тогда серым и даже чернокожим останется утешительная возможность выдать себя соответственным намеком за вымазанного согласно духовной моде белого. Бывали праведники, которые особенно остро ощущализло и грех, разлитые в мире и в своем сознании не отделяли себя от этой порчи, в глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением их личности. Но не праведники сообразили, что и покаянные слезы Марии Египетской могут быть сделаны фасоном духовной моды и притом лестной самолюбию: если упрекает себя во всех грехах и Мария Египетская и я, то вы, окружающие, не очень–то судите обо мне — может быть и я не хуже Марии Египетской. «Все святые себя обвиняли во всех грехах» — такова большая посылка силлогизма. К этой ложной посылке пристраивается, тоже ложная, меньшая — «и я обвиняю себя во всех грехах», ложная, ибо святые, обвинявшие себя, делали это искренно, а я — про себя думая совсем иное, чем говорю на словах. И, наконец, из двух ложных посылок, путем ложного силлогизма, выводится желанное заключение: «следовательно, и я …», впрочем, не выводится, а предоставляется быть выведенным тому, кто не желает показаться гордецом. К самому искреннему раскаянию людей недуховных примешивается отрава похвалы себе за свое раскаяние.
Но нужно действительно умереть, действительно порвать все нити себялюбивой привязанности к Я, чтобы иметь силу взглянуть на свою личность безкорыстным взором и сказать об ней воистину, как об Он. Высшая мера этой способности обнаруживается в правдивой похвале, в доброй оценке всего доброго, но без самодовольства и пристрастия. Кто не умер, тот никогда не взойдет на эту высоту.
Та объективность, которая позволила о. Алексею говорить о себе совсем со стороны, неизбежно наводит на мысль, что это писал человек уже отошедший. Мы не знаем, как это возможно, но мы можем утверждать, что так бывает. Об умирании для мира человека духовного обычно рассуждается в неопределенном смысле, как о неточном и приблизительном выражении малой привязанности такового к мирским пристрастиям. Обычно стараются понять такие слова в отношении всякой нравственной работы над собою, всякого подавления той или другой страсти, не понимая того, что страсти произрастают из глубокого корневища самости и что наличное отсутствие их вовсе еще не говорит об их искорененности. Пока живет это корневище, греховное Я, они всегда могут прозябнуть из недр подсознательного, все они, и нет такой страсти, относительно которой не угасивший в себе злого горения самости мог бы считать обезпеченным, хотя в данную минуту он и не усматривал бы в себе никаких данных известной страсти. Умереть для мира — это значит коренным образом уничтожить внутренний водоворот, силою которого все явления в мире мы соотносим с самими собою и разбираемся в них, отправляясь от этого центра перспективы, а не объективно, т. е. в отношении к истинному центру бытия, и не видим их в Боге. В своем восприятии мы всякий раз извращаем порядок мироздания и насилуем бытие, делая из себя искусственное средоточие мира и не считаясь с истинной соотнесенностью всех явлений к истинному средоточию; мало того, даже его, этот абсолютный устой мира, мы опираем на себя, как спутник и служебное обстоятельство нашего Я. Назвать ли этот способ действования по–профессорски «синтетическим единством трансцендентальной апперцепции», или по–русски коренною греховностью нашего существа, — суть дела от этого не меняется.
Но чтобы этого не было, надо видеть Бога: тогда лишь можно будет видеть в Нем все бытие, а в том числе и себя самого, и тогда лишь наше созерцание мира может быть объективно. Но «никто не может видеть Бога и не умереть» [305]. Чтобы увидеть Его — необходимо вырваться из своей самости, ибо до тех пор мы будем видеть лишь искаженные образы, соотносимые с этой самостью и, следовательно, в Самом Боге мы не сумеем увидеть Бога, а будем видеть лишь искаженные образы, соотносимые с этой самостью и, следовательно, в самом Боге мы не сумеем увидеть Бога, а будем видеть лишь различные идолы своих пристрастий. Увидеть Бога — это значит перенести свое Я из ветхого Адама, из организма своей самости, в абсолютную истину. Однако этот перенос не должен разуметься отвлеченно и смягченно благополучно. Это ничуть не интеллектуальная интуиция и тому подобные умственные акты и психологические состояния, ни к чему не обязывающие и не требующие жертвы, — не частично жертвовать чем–нибудь из своего, а полной жертвы всем самим, и притом в самых глубоких его корнях, — кровавой жертвы самостью. Об этом жертвоприношении себя, конечно, не трудно писать и говорить, как вообще не трудно писать и говорить о чужой смерти. Но на самом деле, жизненно, оно есть смерть, и притом не поверхностная, физиологическая смерть, нередко мало сознаваемая, а до конца сознательная гибель всей самости, испепеляемой в самых своих основах. Вся она напрягает тогда силу противления, сотрясаемая ужасом и тоскою, несравненно более леденящими, чем те, которые мы называем смертными. Нередко человек кончает с собою, ужасаясь предстоящим позором или потерпев неудачу в том или другом страстном влечении, которое он к тому же не одобряет, рассуждая отвлеченно. Это значит, самооберегание самости так велико, что оно преодолевает даже леденящий ужас физического инстинкта жизни. Так — когда самость задета периферически, в одном из своих проявлений. Что же должны думать мы о силе ее отпора, когда ставится вопрос уже не о том или другом из ее проявлений, а о ней самой, в самом ее средоточии. Конечно, для нее это несравненно более жгучая борьба, чем только за физическую жизнь, и победа над нею есть смерть более глубокая, чем только физическая смерть. Когда Апостол Павел говорит, что он умер для мира [306], это не только метафора, в смысле необходимого ослабления силы его слов, а напротив — нечто обратное гиперболе, ибо энергия его слов должна быть неимоверно повышена: эти слова надо бы кричать, а не говорить, чтобы они достаточно задели сознание. Умереть для мира — означает великую тайну, которой нам, не умершим, не понять, но о которой мы должны твердо запомнить, что она существует. Да, можно оставаться среди людей и делать вместе с ними дела жизни, но быть мертвым для мира и руководить деятельностью своего тела, находясь уже не в нем, а со стороны, из горнего мира. Иоанн Лествичник [307], авва Варсонофий [308] и другие свидетельствуют, что есть люди умершие и уже воскресшие до всеобщего воскресения; это те, кто достиг полного безстрастия, т. е., конечно, не стоического безразличия и не скептической невозмутимости, а искоренения в себе страстей. Это свидетельство, возвещаемое ими торжественно, есть открытие тайны совершенно особого человеческого устроения и никак не должно быть сводимо на нравственную характеристику: речь идет об онтологии.