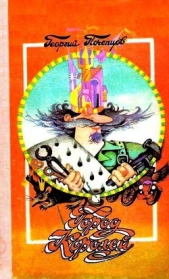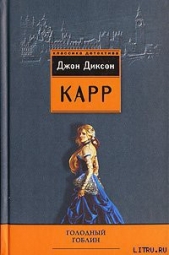Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь

Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь читать книгу онлайн
Еда разграничивает город и деревню, влияет на транспортную инфраструктуру и систему утилизации отходов, создает новые архитектурные типологии и рабочие места, определяет планировки квартир и устройство первых этажей, задает городской ритм и наполняет городское пространство. «Голодный город» архитектора Кэролин Стил — это подробное описание гигантской «пищевой цепочки», не просто обслуживающей город, но составляющей саму его жизнь.?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Речь в первую очередь о мясе. Британцев исстари отличало пристрастие к полусырым кускам говядины, что, по мнению французов, говорило об отсутствии хороших манер. Как выразился повар Шатийон-Плесси, «сравните, так сказать, нации кровавых бифштексов с нациями соусов, и подумайте, не следует ли считать последние более цивилизованными»34. Теперь, однако, жизнерадостное мясо-едство «пожирателей ростбифов» начало сходить на нет. Вегетарианство не было чем-то абсолютно новым: в эпоху Просвещения эта тема неоднократно поднималась и в Британии, и во Франции. За вегетарианство из сочувствия к животным ратовали такие столпы философии, как Ньютон и Руссо, но мало кто из них заходил настолько далеко, чтобы отрицать любое умерщвление ради пропитания. Теперь такие воззрения начали распространяться. Все более громогласное лобби заявляло, что всякое употребление мяса — это варварство: в Британии эта позиция была формально заявлена в 1847 году с созданием Вегетарианского общества35. Хотя его численность росла не особенно быстро (за первые полвека оно привлекло в свои ряды всего 5000 членов), само существование такой структуры порождало среди подавляющего большинства британцев — тех, кто продолжал есть мясо, — чувство вины и неловкости36. Отвращение к убийству животных понемногу укоренялось, правда, выражение оно находило не в постепенном отказе от мяса, что было бы логично, а в последовательных попытках замести следы. Словно банда убийц, прячущая труп жертвы, викторианцы загоняли сомнения в глубины подсознания и старались обустроить свой мир так, чтобы его неприятные черты можно было просто не замечать. Столкнувшись с тревожным противоречием между своими кулинарными привычками и угрызениями совести, они предпочли закрыть на него глаза, и мы до сих пор действуем в том же духе.
Пока бойни быстро исчезали из городов, повара взяли моду неузнаваемо менять внешний вид пищи, чтобы скрыть ее происхождение. Если прежде поросята, кролики и гуси появлялись на столе практически как живые (с головами, шерстью, перьями и так далее), то теперь их подавали без этих отличительных признаков или и вовсе «по-русски», когда мясо нарезалось вне поля зрения обедающих и разносилось отдельными порциями. Эта ново-обретенная чувствительность отвечала представлениям гуманиста Уильяма Хэзлитта: «Животные, которых мы употребляем в пищу, должны быть настолько мелкими, чтобы их нельзя было распознать. В противном случае нам не следует... допускать, чтобы форма их подачи обличала наши чревоугодие и жестокость»37. На смену ритуалу нарезки мяса посреди стола, некогда прославлявшему живое существо, которое пойдет нам в пищу, пришли различные уловки, призванные скрыть сам факт, что оно когда-либо было живым.
Это чувство вины усилилось после выхода в 1859 году книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Автор делал ужасающий вывод: возможно, человек не полностью отличается от всех других животных и даже связан с некоторыми из них кровными узами. Хотя поначалу теория Дарвина была воспринята крайне неоднозначно, сама возможность того, что человек питается плотью своих дальних родственников, придала новый импульс дебатам вокруг мяса. Маятник психологического восприятия пищи, всегда колеблющийся между удовольствием и страхом, явно качнулся в сторону последнего. Сам вид мяса стал вызывать отвращение — бифштекс с кровью слишком напоминал человеческую плоть. Британцы, над которыми французы прежде посмеивались из-за варварского пристрастия к полусырой говядине, принялись пережаривать ее до состояния подошвы, что мы, собственно, делаем и сейчас.
Пока викторианцы пытались прийти к компромиссу с собственной телесностью, пространство, в котором они обитали, тоже менялось. До XVIII века разные социальные классы существовали в городах бок о бок, на одних и тех же улицах. Первым нарушением этой традиции стали лондонские кварталы георгианской эпохи: населенные только буржуазией и аристократией, с собственной охраной и воротами, запиравшимися на ночь, они были прямыми предшественниками наших частных коттеджных поселков. Подобные городские образования стоят у истоков классовой сегрегации в Британии, но по-настоящему эпоха социально однородных анклавов как доминирующей типологии застройки началась с появлением железных дорог. С середины XIX века все, кто мог себе это позволить, начали перебираться из центра в пригородные районы вроде Бедфорд-парка на западной окраине Лондона, построенного в 1881 году по проекту архитектора Ричарда Нормана Шоу. Бедфорд-парк с его краснокирпичными домами, островерхими крышами и извилистыми зелеными аллеями, по сути, воплощал идеализированное представление о сельском хуторе — он стал прототипом британского пригорода-сада.
Исход зажиточных людей из городов был связан не только со стремлением избежать скученности. Города всегда имели славу мест грязных и нездоровых, но, поскольку причина эпидемий оставалась неизвестной, болезни воспринимались просто как одна из опасностей, свойственных городской жизни. Так было до 1854 года, когда лондонский врач Джон Сноу сделал открытие, в корне изменившее общественные представления. В ходе особо острой вспышки холеры в Сохо Сноу сумел вычислить ее источник — им оказалась одна единственная уличная колонка с зараженной водой. Он рекомендовал властям снять с нее рукоятку насоса, что после некоторых колебаний было выполнено — ив результате, как и предсказывал Сноу, смертность сразу пошла на убыль. Этот случай впервые продемонстрировал, что инфекционные заболевания вызываются не «миазмами» испорченного воздуха, а бактериями, которые распространяются с помощью какого-то физического носителя, например воды. Появление так называемой микробной теории оказалось и одним из важнейших рубежей в истории микробиологии, и причиной серьезного сдвига в том, как люди относятся друг к другу. Внезапно тесное соседство с другими представителями нашего вида резко утратило привлекательность. Микробная теория положила начало новой эре — эре не только социальной, но и психологической сегрегации.
К середине XIX столетия разделение на своих и чужих уже неукоснительно проводилось как вне дома, так и внутри него. Отдельно стоящие или парные виллы, росшие как грибы после дождя вокруг городов, все больше напоминали убежища. Джон Рескин провозглашал семейное жилище «храмом» — «островом спокойствия, защитой не только от всех опасностей, но и от страха, сомнений и противоречий»38. Но большинство хозяек этих «храмов» даже среди дубовых аллей и за плотными гардинами не чувствовали себя так уютно, как им хотелось бы. Пока мужья целыми днями работали в городе, оставленные ими в одиночестве женщины проводили время, нанося утренние визиты соседкам, разыгрывая уверенность в себе перед слугами и в ужасе планируя очередной званый ужин.
Именно на этом фоне общего непокоя складывалась структура викторианского жилища. Званые вечера представляли собой настоящие театральные постановки, а дома представителей среднего класса служили их подмостками. Сколько бы крови, пота и труда ни требовалось для устройства таких ужинов (а в них несомненно вкладывалось немало сил), их успех зависел от иллюзии непринужденности. До конца XVIII века званые ужины даже в богатых домах зачастую проходили в неформальной обстановке — гости сидели за раскладными столами в семейной гостиной. Теперь это уже казалось недостаточно торжественным. В моду вошли отдельные столовые и разнообразные служебные помещения, устроенные таким образом, чтобы, как выразился один архитектор, «того, что происходит по одну сторону границы, нельзя было увидеть и расслышать по другую»39. Окончательно оформлялось разделение викторианского жилища на господскую верхнюю часть и отданный слугам низ, а с ним и новообретенное стремление как можно тщательнее скрыть внутреннее устройство дома. Всех вдруг заинтересовала компоновка кухни, но вопрос был не в том, чтобы облегчить процесс приготовления пищи (тут любые неудобства легко компенсировались большим числом слуг), а в том, как полностью утаить ее существование. Суть проблемы сформулировал в 1880 году архитектор Дж. Дж. Стивенсон: «...Если сама кухня не проветривается так, чтобы все запахи и пары моментально уносились прочь, последние несомненно проникнут в дом, настигнут нас тошнотворной вонью в залах и коридорах и, несмотря на все ухищрения вроде вращающихся дверей и зигзагообразных переходов, проложат себе путь даже в спальню на самом верхнем этаже»40.