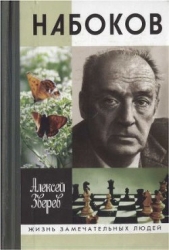Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова
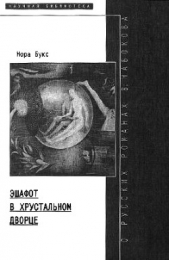
Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова читать книгу онлайн
Исследование французского литературоведа посвящено шести романам русского периода в творчестве В. Набокова ( "Машенька", "Король, дама, валет", "Камера обскура", "Приглашение на казнь", "Подвиг" и "Дар" ).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пение соловья раздается с наступлением сумерек и длится до конца ночи (ср. англ. Nightingale, нем. Náchtigall). Воспоминания о любви, которым предается в романе Ганин, всегда носят ноктюрный характер. Символично и то, что сигналом к ним служит пение соседа Ганина по пансиону, мужа Машеньки: «Ганин не мог уснуть… И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать… Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у» (с. 38). Ганин заходит к Алферову и узнает о Машеньке. Сюжетный ход пародийно воплощает орнитологическое наблюдение: соловьи слетаются на звуки пения, и рядом с одним певцом немедленно раздается голос другого. Пример старых певцов влияет на красоту и продолжительность песен. Пение соловья разделено на периоды (колена) короткими паузами. Этот композиционный принцип выдержан в воспоминаниях героя, берлинская действительность выполняет в них роль пауз.
Ганин погружается в «живые мечты о минувшем» (с. 168) ночью; сигнальной является его фраза: «Я сейчас иду к ней» (с. 68) (см. приведенную выше цитату). Характерно, что все встречи его с Машенькой маркированы наступлением темноты. Впервые герой видит Машеньку «в июльский вечер» (с. 70) на дачном концерте. Семантика соловьиной песни в романе реализуется в звуковом сопровождении сцены. Цитирую: «И среди… звуков, становившихся зримыми… среди этого мерцанья и лубочной музыки… для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте…» (с. 71).
Знакомство Ганина и Машеньки происходит «как-то вечером, в парковой беседке…» (с. 86), все их свидания — на исходе дня. «В солнечный вечер» (с. 57) Ганин выходил «из светлой усадьбы в черный, журчащий сумрак…» (с. 103). «Они говорили мало, говорить было слишком темно» (с. 63). А через год, «в этот странный, осторожно-темнеющий вечер… Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда» (с. 111).
Свидания Ганина и Машеньки сопровождаются аккомпанементом звуков природы, при этом человеческие голоса либо приглушены, либо полностью «выключены»: «…скрипели стволы… И под шум осенней ночи он расстегивал ей кофточку… она молчала…» (с. 104). Еще пример: «Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился к ней… Но в парке были странные шорохи…» (с. 111).
Последняя встреча героев также происходит с наступлением темноты: «Вечерело. Только что подали дачный поезд…» (с. 112). Характерно в этой сцене изменение оркестровки: живые голоса природы заглушены шумом поезда («вагон погрохатывал») (с. 113) — этот звук связан с изгнанием героя. Так, о пансионе: «Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов» (с. 77). Ганину казалось, что «поезд проходит незримо через толщу самого дома… гул его расшатывает стену…» (с. 19).
Переживаемый заново роман с Машенькой достигает апогея в ночь накануне ее приезда в Берлин. Глядя на танцоров, «которые молча и быстро танцевали посреди комнаты, Ганин думал: „Какое счастье. Это будет завтра, нет, сегодня, ведь уже за полночь… Завтра приезжает вся его юность, его Россия“» (с. 151). В этой последней ночной сцене (ср. первая встреча на дачном концерте) намеком на музыку служит танец. Однако музыка не звучит, повтор не удается («А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?» — думает Ганин) (с. 55), и счастье не осуществляется.
Исчезновение музыки в финале прочитывается в контексте ведущего тематического мотива романа, мотива музыкального: песни соловья. Именно звуковое наполнение и придает воспоминаниям Ганина смысл ночных соловьиных мелодий. «Машенька, — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, — ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастье, — и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое» (с. 76) [12].
Пение птицы затихает на рассвете (ср. у Набокова: «За окном ночь утихла») (с. 155). И вместе с ним исчезает волшебная действительность, «жизнь воспоминаний, которой жил Ганин», теперь она «становилась тем, чем она вправду была — далеким прошлым» (с. 166).
С наступлением дня начинается и изгнание героя. «На заре Ганин поднялся на капитанский мостик… Теперь восток белел… На берегу где-то заиграли зорю… он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда» (с. 151). Образы родины и возлюбленной, которые, как не раз отмечали исследователи [13], сближаются в романе, остаются в пределах ночной соловьиной песни, трансформируются из биографических в поэтические; иначе говоря, становятся темой творчества.
В работах о «Машеньке» писали об автобиографичности романа [14], в образе Ганина обнаруживали авторские черты. Предположение обретает дополнительный игровой смысл в свете ведущего мотива: сходство героя и автора аналогично сходству соловья и Сирина, псевдонима, которым Набоков подписывал свои произведения на русском языке [15].
Выбор В. Набоковым в качестве псевдонима имени райской птицы из русского фольклора может быть прочитан как игровое отражение другой известной птичьей писательской фамилии, но настоящей — Гоголь [16]. Симптоматично и то, что в следующем псевдоавтобиографическом романе «Подвиг» Набоков выбрал для своего героя имя Мартын Эдельвейс, сочетание птицы (мартын — водяная птица типа чайки, Larus Sterna) и горного цветка — эдельвейс, объединив в одном персонаже два доминантных образа первого романа «Машенька».
Образ героини, Машеньки, вбирает черты фетовской розы. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры скрытого цитирования. Так, из письма Машеньки Ганину: «Если ты возвратишься, я замучаю тебя поцелуями…» (с. 138). Ср. у Фета: «Зацелую тебя, закачаю…» (с. 109). Ганин постоянно вспоминает нежность образа Машеньки: «нежную смуглоту» (с. 68), «черный бант на нежном затылке» (с. 73). Ср. у Фета: «Ты так нежна, как утренние розы…» (с. 109). Алферов о Машеньке: «жена моя чи-истая» (с. 159). У Фета: «Ты так чиста…» (с. 109). Поэт Подтягин говорит о влюбленном Ганине: «Недаром он такой озаренный» (с. 83). У Фета: роза дарит соловью «заревые сны» (с. 109).
Образ розы в емкой системе цветочного кода занимает главное место. Роза — символ любви, радости, но и тайны. Ср. латинское sub rosa как обозначение тайны [17]. И не случайно, что в романе, где рассыпано немало цветов, роза, символизирующая первую любовь героя, не названа ни разу. Таково зеркальное отражение приема называния: героиня, чьим именем озаглавлено произведение, ни разу не появляется в реальности.
Намек на скрытый смысл, заложенный в имени, делается уже в первых строках романа: «Я неспроста осведомился о вашем имени, — беззаботно продолжал голос. — По моему мнению, всякое имя… всякое имя обязывает» (с. 7) (о потаенном значении имени — см. далее).
Образ розы как аллегории Машеньки возникает в зашифрованной отсылке во фразеологию другого языка. Так, Ганин, сидя рядом с Алферовым, «ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминаньи о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое благоухание» (с. 82). Ср. по-французски: «Elle a perdu sa rose» — о потере девственности.
Умышленное непроизнесение имени, погружение его в тайну, либо подмена другим, условным, — известный прием сакрализации образа. Любовь в сознании героя связана с тайной. Так, о летнем романе Ганина и Машеньки: «дома ничего не знали…» (с. 90). И позже, в Петербурге: «Всякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта…» (с. 108).
Переживая заново свое чувство в Берлине, Ганин скрывает его, ограничивается намеками, которые лишь подчеркивают таинственность происходящего. Ганин говорит Кларе: «У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет» (с. 116–117). Старому поэту Ганин делает псевдоисповедальное заявление о начале счастливого романа (см. вышеприведенную цитату, с. 168).