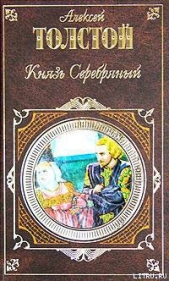Поэтика за чайным столом и другие разборы
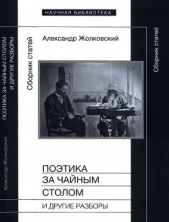
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мотивы свадебного насилия[409] близки к фольклорным мотивам битвы. Согласно Г. А. Левинтону, в германском мифе о Сигурде (и в параллельном русском сюжете о женитьбе Святогора) первая встреча героев включает рассечение груди невесты мечом.
Сигурд встречает в лесу стену из щитов (ср. дом с оградой в лесу в русской сказке) и видит за оградой человека в полном вооружении. Сняв с него шлем, Сигурд обнаруживает, что перед ним — женщина. «Она была в броне, а броня сидела так плотно, точно приросла к телу. И вспорол он броню от шейного отверстия книзу…» Разбудив женщину, «Сигурд сказал ей, что слишком долго она спала…». <…> удар мечом является эвфемизмом овладения <…> дефлорации <…> субституирует брак.
[Левинтон 1975а: 84–85][410]
В «После бала» с этим перекликаются: военный строй, бронзовые одежды и — метафорически — их насильственное рассекание при истязании татарина.
Что касается взаимоотношений невесты с царем, то они могут находиться на грани инцеста. В некоторых сюжетах встречается отец (или брат), пытающийся жениться на дочери, так называемый lecherous father[411]. Часто отец царевны выступает соперником героя в испытаниях. В других случаях именно он или родственный ему тотемный предок невесты берет на себя дефлорацию (ср. право первой ночи). Эта фигура предка принимает в сказках облик колдуна, змея, Кощея, с которым первоначально сожительствует царевна и который умерщвляется в ходе испытаний[412].
Один из вариантов инцестуального сожительства царевны с тотемным предком представлен в сюжете ‘исплясанных туфель’[413]. Девушка исчезает по ночам, а возвращается в разбитых от танцев туфлях; герой выслеживает ее, убивает змея, к которому она ходит, и получает ее в жены. Параллели в толстовском сюжете, тоже построенном вокруг танца героини с отцом, очевидны; отметим также малозаметное обещание кадрили после ужина, «если меня не увезут»[414].
Сосредоточившись на параллелях между «После бала» и свадебным участком сказочного сюжета (включающим борьбу героя с противниками — вредителем, царевной и царем тридесятого царства), мы до сих пор оставляли почти совсем в стороне второй основной круг мотивов — инициационный. Правда, как отмечал сам Пропп и его последователи, различия между свадебными испытаниями и предшествующими им испытаниями-инициациями, ведущими к приобретению волшебного средства, могут так или иначе комбинироваться, накладываться друг на друга, обмениваться мотивами и атрибутами и т. д. Тем более это относится к литературным текстам и, в частности, к «После бала», бинарная композиция которого не соотносится впрямую со стандартной последовательностью сказочных мотивов. Кратко укажем на ряд инициационных «подтекстов» рассказа.
Процесс инициации[415], дающий герою право на вступление в брак, состоит в овладении тайным знанием — посвящении в мифы и обычаи племени (ср. настоятельные попытки Ивана Васильевича узнать то, что знают полковник и подобные ему). Такое узнавание обычно совершается при звуках магической музыки, часто флейт; содержит в качестве одного из испытаний запрет сна (ср. бессонницу в «После бала»); включает отравление и сопровождается временным безумием (ср. тошноту и опьянение героя в ходе попыток осмыслить увиденную им порку). Испытуемые подвергаются мучениям и переживают состояние временной смерти (таково состояние героя и истязаемого солдата в «После бала»). Одно из орудий ритуального умерщвления — «рубашка на смерть» (вспомним рубашку Левина, чуть не срывающую венчание и в более широком смысле являющуюся аналогом перчаток в «После бала»). После возвращения в обыденную жизнь посвященный мог забывать свое имя, не узнавать родителей и т. п. (ср. уход героя «После бала» из армии и светского общества). Посвящение производится дарителем, представляющим в сказке отцов и колдунов племени (в «После бала» этому соответствует последовательная пассивность героя в обоих эпизодах, где действует отец Вареньки)[416].
Параллели между «После бала» и волшебной сказкой, аккумулировавшей реликты древних обрядов и мифов, отнюдь не прочитываются однозначно. Для их интерпретации необходимо проанализировать сложные сплетения выявленных архаических ролей в свете структуры данного рассказа и аналогий с другими произведениями Толстого, особенно позднего.
Язычество и христианство
Архетипическое прочтение зависит прежде всего от того, на какие мотивы — свадебные или инициационные — проецировать порку татарина и как трактовать роли ее участников. При свадебной интерпретации получают полное разъяснение вопросы о связи двух частей рассказа и о разрешении любовного импульса первой части во второй. «После бала» предстает как скрытое, но интенсивное воплощение страха перед чувственным телом, дефлорацией, vagina dentata.
Осуждение пола, даже в браке, было характерно для позднего Толстого; ср. мнения героя «Крейцеровой сонаты» о браке как узаконенном разврате, об идеальном и свином началах в любви, о необходимости воздержания от секса в браке и вообще о желательности отбить у молодых людей «охоту от женщин» и научить последних «считать <…> высшим положением положение девственницы». Герой рассказа Позднышев вступает в полемику с воззрениями, принятыми в обществе и восходящими к куртуазному рыцарству, и называет современных теоретиков брака «жрецами науки» и «волхвами» (!). Развивая эту языческую метафору, он говорит:
Толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся об их правах и свободе (глава 13).
Согласно Толстому, животная природа пола и условия брака делают супружескую жизнь адом, полным взаимной ненависти и стремления к убийству. Убийством разрешаются коллизии в «Крейцеровой сонате», самоубийством — в «Дьяволе» и «Анне Карениной», символическим самооскоплением (отрубанием пальца) — в «Отце Сергии»[417]. Приравнивание плотской любви к убийству[418] есть уже в «Анне Карениной», в описании «падения» героини:
[Вронский] чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви <…> Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит, и режет его; так он покрывал поцелуями ее лицо и плечи (II, 11).
Правда, здесь убийство любви усматривается в адюльтере, но уже в «Святочной ночи» развратом был объявлен и брак, не основанный на чистой любви, а в «Крейцеровой сонате» брачная любовь представлена как добровольный взаимный самообман. Неудивительно поэтому, если глубинный смысл «После бала» состоит в отвержении брака и насилия, на котором он основан. Гиперболой брачного насилия (в сказочных терминах — укрощения невесты) и служит жестокий ритуал порки. Его языческая жестокость (ср. слова Позднышева о людоедах) имеет своими обрядовыми соответствиями подлинный каннибализм и ритуальные увечья, наносившиеся в ходе инициации[419].
В рамках свадебного прочтения полковник играет роль помощника, осуществляющего за героя укрощение невесты, и в то же время особо враждебного герою инцестуального предка-дефлоратора героини типа змея, чем подчеркивается чуждость героя тотемной ‘культуре’ того николаевского ‘племени, в которое ему предстоит вступить. Инцестуальный мотив подкреплен танцем полковника с Варенькой, а его императорский аспект имеет интересные параллели. Так, в «Отце Сергии» Николай I — как полковник на балу! — продолжает ласково улыбаться герою и как бы покровительствует браку (который расстраивается из-за него)[420].
При другом возможном прочтении «После бала» — инициационном[421] — истязаемый татарин замещал бы самого героя[422], а полковник играл бы роль колдуна или иного старшего предка, руководящего инициацией, в терминах сказки — волшебного испытателя/дарителя. Связь героя с татарином задана в «После бала» на эмоциональном уровне как сострадание, а на сюжетном — общим мотивом уклонения от военной службы. Сочувствуя татарину, герой как бы постепенно переходит из класса мучителей (куда его помещает связь с полковником и его дочерью) в класс жертв. Медиатором между ними выступает солдат, который неумело бьет жертву, за что и сам подвергается избиению[423].