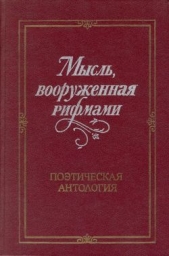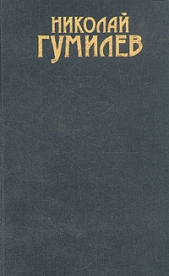Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
спокойнее. Но его мятежные порывы не проходили, приобретая различные формы: мятеж против окружавшего его общества, против
эмигрантской общины, против Запада, против самого себя, наконец. В периоды депрессии он говорил о себе как о человеке, который «не
принимает ни этой земли, ни этого неба и тщетно ищет другой земле и других небес». «Это вовсе не означает, — говорит Карпиньский, — что все
его произведения были выдержаны в черных тонах отчаяния: он не разучился радоваться жизни и с удивительной точностью и силой умел
показать радость настоящего, несколькими деталями описывая те уголки земли, где ему доводилось жить». Как-то он заметил, что эмиграция для
него началась после переезда из Вильнюса в Варшаву. В «Земле Ульро» он пошел еще дальше, углубляясь в прошлое и описывая свое изгнание
из рая детства. В 1967 г. Милош писал: «Изгнание — судьба современного поэта, живет ли он на родине или заграницей, потому что он почти
всегда отрывается от знакомого и родного маленького мира традиций и убеждений, познанных в детстве». Милош считает, что «принять это
следует, как судьбу, без восклицаний, патетики и романтических жестов. Все дело в том, какую пользу можно из этого извлечь. В любом случае
следует развеять миф о творческом бесплодии, которое якобы овладевает поэтом, как только прервутся мистические связи с родиной».
«Это вовсе не означает, — говорит далее Карпиньский, — что Милош обрел олимпийское спокойствие. Он просто не перестает мыслить».
(Вспоминается Паскаль: «Постараемся же основательно мыслить — вот основа нравственности».)
В 1975 г. было опубликовано эссе Милоша «Заметки об эмиграции», в котором он писал, что «эмиграция, принятая, как судьба, возможно,
сумеет выявить наши заблуждения». Сейчас цензура тоталитарных государств уже разрешает «маленькие авангардистские игры, прежде
запрещенные. Но карает немилосердно, если писатель проявляет интерес к окружающей действительности». Если же этот писатель оказывается в
эмиграции, он будет считать своим долгом говорить о том, что знает, и сталкивается с тем, что темы, столь важные на родине, интересуют весьма
ограниченный круг людей заграницей, даже если поначалу, благодаря стечению обстоятельств, и вызывают некоторый интерес. В итоге писатель
понимает, что не может обращаться к читателям, которых интересуют эти прежние темы. Он может лишь обращаться к тем, с кем у него нет
прямого контакта. Мало-помалу он погружается в жизнь той страны, где находит пристанище, связь с родиной ослабевает, знание о ней из
осязаемого превращается в теоретическое. Если он не хочет «оставаться узником стерильности, ему приходится изменяться».
«Писателю в эмиграции нужны новые глаза, — пишет Милош. — Он также должен попытаться обрести новый язык: он может это сделать в
буквальном смысле, начав писать на языке той страны, где нашел пристанище, а может так писать на родном, что его произведения будут поняты
и приняты читателями этой страны. Однако еще более трудная задача — найти путь незримого проникновения на родину, не утратив духовной и
теоретической связи с ее литературой, постоянно развивающимся организмом, и использовать это в своей работе как движение от прошлому к
настоящему».
Карпиньский считает, что Милош, подобно Гомбровичу, смотрел на настоящее скептично. Они оба держались в стороне от литературной
среды, как эмигрантской, так и оставшейся на родине. «Ибо они знали, — пишет Карпиньский, — что были будущим своей литературы. Она была
их истинной родиной и местом жительства».
Милош пришел к выводу, что у отчаяния в эмиграции три основных источника: утрата имени, страх неудачи и нравственные страдания,
причиной которых является еще и то, что невозможно поделиться своим опытом с соотечественниками, оставшимися на родине. «Невозможно, —
заключает Милош, — создать нравственно ценную книгу и сохранить свой образ непошатнувшимся».
Таковы печали эмиграции, которые вновь и вновь возвращают писателя к началу пути — к ежедневному поиску ответов на эти и многие
другие вопросы. Возможно, 2-ой конгресс писателей-эмигрантов не дал ответов на все многочисленные вопросы, поставленные перед ними. Быть
может, и не существует универсальных ответов на вопросы, которые ставит эмиграция перед писателем: у каждого своя история, своя
действительность, свои раздумья. Но книга «Литература в изгнании», составленная Джоном Глэдом, свела воедино опыт и раздумья нескольких
поколений писателей-эмигрантов разных стран (а если принять во внимание темы, затронутые ими, то и многовековой опыт изгнанников). Книга
заставляет взглянуть на себя и свое дело иными глазами, требует иного зрения. Эмиграция усиливает одиночество писателя, суровое и холодное,
потому что настоящий писатель всегда остается один-на-один с необходимостью давать имена стремительно меняющейся действительности. Книга
эта учит смотреть правде в глаза, а в итоге — преодолению страха одиночества и неизбежной оторванности через мужество — мужество
основательно мыслить.
1990, Нью-Йорк
Искушение этикой[361]
В своей уже давней статье «Возрождение против авангарда» Максим Кантор выдвигает соблазнительный, но спорный тезис о том, что
истинное искусство этично, забывая о том, что таких художников Возрождения, как Бенвенуто Челлини, композитора Джезуальдо да Веноза,
самого Леонардо да Винчи трудно назвать образцами морали. Максим Кантор говорит о двух спорных точках зрения на Ренессанс,
противопоставляя итальянский Ренессанс северному, то есть золотому веку искусства Нидерландов (при этом опять-таки вычленяя таких
художников, как Рембрандт, и не упоминая Вермеера, Босха, Брейгелей вовсе).
По поводу соблазнительного тезиса о нравственности в искусстве я писал, что Элиот, начавший как авангардист и модернист, пришел к
истинной вере и стал христианским поэтом и консерватором в литературе, а его старший товарищ Паунд, антисемит, осужденный за
сотрудничество с фашистами, нераскаянный и нераскаявшийся, поддержавший и впервые опубликовавший Элиота, Джойса, Фроста, Хильду
Дулитл (ХД), наставлявший Хемингуэя и многих других, оказал гораздо большее влияние на англоязычную поэзию, чем Элиот. И продолжает
оказывать. Не странно ли это? Искусство живет там, где есть артистизм, иные боги, иные чертоги. Почему мы должны принимать иерархию Данте
вместе с его гениальной поэмой? Почему мы должны всерьез обсуждать, за что он карает Арнаута Даниэля, Сорделло и Гвидо Кавальканти?
(Кстати, куда бы он направил Пушкина, живи он в 19 веке? Неужели можно утверждать, что Пушкин был образцом нравственности и за это его
затравила великосветская чернь?) Я напоминал автору, что у Данте, который бесспорно является величайшим поэтом нового времени, были семья
и дети, о которых он нигде не упоминает, не говоря уж о «Божественной комедии». Выдающийся философ, архиепископ Николай Кузанский был
яростным гонителем инакомыслящих, еретиков и стремился быть «святее папы римского». Двойная жизнь — двойные стандарты. Был ли
Джордано Бруно менее крупным мыслителем, чем Николай Кузанский?[362]
Остроумно отмечая, что Возрождение подразумевает предшествовавший ему упадок, Максим Кантор забывает о некоторых общих законах
искусства, таких, например, как открытый В. Шкловским закон об «остранении», который впоследствии развивал Брехт («очуждение»), то есть об
обновлении искусства, сдвиге существующих конвенций. Кантор говорит о социальности искусства и проводит параллели между эпохой
Реформации и временем социальных катаклизмов века двадцатого, включая большевистскую революцию, доказывая, что между авангардом и
тоталитаризмом нет различий, и как бы деля авангард на «нравственный» (Ван Гог, Пикассо, Шагал, Брехт) и «безнравственный» (прежде всего,
нелюбимый им Малевич и супрематизм), говорит об авангарде как о преемнике языческого искусства, воплощенного в жесте. При этом он