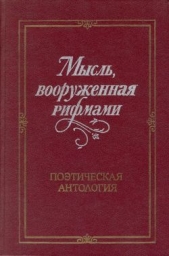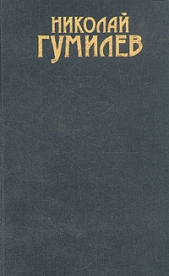Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии

Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии читать книгу онлайн
Автор книги Ян Пробштейн — известный переводчик поэзии, филолог и поэт. В своей книге он собрал статьи, посвященные разным периодам русской поэзии — от XIX до XXI века, от Тютчева и Фета до Шварц и Седаковой. Интересные эссе посвящены редко анализируемым поэтам XX века — Аркадию Штейнбергу, Сергею Петрову, Роальду Мандельштаму. Пробштейн исследует одновременно и форму, структуру стиха, и содержательный потенциал поэтического произведения, ему интересны и контекст создания стихотворения, и философия автора, и масштабы влияния поэта на своих современников и «наследников». В приложениях даны эссе и беседы автора, характеризующие Пробштейна как поэта и исследователя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
незначительности, тому, что он остался один, укрывшись в анонимности, так же трудно, как увидеть австралийского попугая на Северном
полюсе». Бродский, написав свое эссе заранее, предсказывает, что таковых на конгрессе не окажется. Однако есть в таком положении и свое
преимущество: эмиграция учит смирению, изгнание — лучшее место для расцвета данной добродетели, тем более ценное, что оно открывает
перед писателем самую просторную перспективу. «„Раствориться в человечестве“ (цитата из Джона Китса), быть иголкой в стоге людском, но
иголкой, которую ищут — вот что дает писателю эмиграция. Отбрось тщеславие — ты всего лишь песчинка в пустыне. И потому изгнание есть
некое метафизическое состояние, не отдавать себе в этом отчета значит обманывать себя».
Есть и еще одна сторона изгнания, о которой говорили на конгрессе, — шумная. Бесчисленные интервью, политическая и прочая
деятельность — на все это уходит энергия, которая прежде растрачивалась на стояние в очередях. Растет «Ego» писателя, заполняемое СО2.
(Париж напоминает Бродскому о братьях Монгольфье, создателях воздушного шара.) Воздушное плавание писательского шара непредсказуемо:
слишком легко он становится игрушкой политических ветров. Воздухоплаватель прислушивается ко всем прогнозам и нередко стремится сам
предсказывать погоду, ибо маршрут его неуклонно смещается в сторону дома. «И в этом — еще одна правда эмиграции, — пишет Бродский. —
Ибо писатель-изгнанник подобен лжепророкам из Дантовского „Ада“: его голова все время повернута назад, а по спине, меж лопаток стекают
слезы или слюна». Даже получив свободу передвижения, свободу путешествовать и видеть мир, писатель-эмигрант прирастает к прошлому, как
Овидий к Риму, Данте к Флоренции, Джойс к Дублину. «Прошлое, каким бы оно ни было — приятным или ужасным — всегда безопасная
территория, ибо оно пережито, и стремление вернуться назад из реальности, особенно в мыслях и мечтах, всегда очень сильно в нас. Писатель в
эмиграции, подобно Фаусту, жмется к своему „прекрасному“ или не совсем прекрасному мгновению не для того, чтобы созерцать или
наслаждаться им, но для того, чтобы отсрочить наступление следующего. Не стремление снова обрести молодость движет им, он просто хочет
наступления завтрашнего дня. И завтра тем более теснит его, чем упрямее он становится». В подобном упорстве, по мнению Бродского, может
таиться и огромная ценность: «Если повезет, оно может привести к столь интенсивной сосредоточенности, что тогда и на самом деле может
появиться на свет великое произведение искусства (что чувствуют и читатели, и издатели, внимательно следящие поэтому за литературой
эмиграции). Чаще, однако, такое упорство ведет к перепеванию мотива ностальгии, которая, грубо говоря, попросту свидетельствует о неудаче в
борьбе с реальностью настоящего или неопределенностью будущего».
Бродский полагает, что писатель в эмиграции становится консервативнее. Подобное обобщение, строго говоря, весьма субъективно —
возникает вопрос: о каких писателях или конкретном писателе идет речь? Как убедительно показал в своем эссе В. Карпиньский, польские
писатели Гомбрович и Милош создали свои неповторимые произведения, свой стиль, а в целом великую польскую литературу современности
именно в эмиграции. В. Набоков, создавший свой стиль, свою манеру письма, работал на постоянном «сдвиге»: от «Подвига» и «Машеньки» — к
«Дару», к «Приглашению на казнь» манера его письма постоянно менялась, изменялось и само видение мира. И в своих «американских» романах
Набоков как бы вновь отрицает себя и свои находки, сумев тем самым, по свидетельству многих критиков, сказать американским читателям новое
об их собственной стране.
Поэтам, как известно, присущ субъективизм, а данное эссе Бродского к тому же не является литературоведческим исследованием. Лично я
воспринимаю это эссе как обобщение поэтом собственного опыта, как раздумья над вопросами, на которые так или иначе приходится искать
ответы каждому писателю-эмигранту. Оно позволяет по-новому взглянуть и на собственное творчество Бродского.
Далее Бродский пишет: «Писатель может, конечно, изменить манеру письма, сделать ее более авангардистской, сдобрив хорошей порцией
эротизма, насилия, сквернословия по примеру коллег, производящих продукцию для свободного рынка. Однако стилистические сдвиги и
нововведения в огромной мере зависят от состояния литературного языка „там“, на родине, связь с которой не прерывалась. Что до приправ, то
писатель, будь то эмигрант или нет, никогда не хочет находиться под влиянием кого бы то ни было из своих современников. Эмиграция,
возможно, замедляет стилистическую эволюцию, и еще одна правда об эмиграции заключается в том, что писатель в изгнании становится
консервативнее». Стиль, по мнению Бродского, — не столько человек, сколько его нервы, а эмиграция в целом дает меньше раздражителей
нервам, чем родина. «Такое состояние беспокоит писателя не только потому, что, по его мнению, существование на родине более естественное,
нежели его нынешнее (каковым оно и является по определению со всеми вытекающими или мнимыми последствиями). В сознании писателя живет
подозрение о маятниковой зависимости или соотношении между этими раздражителями и родным языком». По образному выражению Бродского,
«жизнь писателя в эмиграции во многом является прообразом будущей судьбы его книг, которые растворятся, затеряются среди других на
полках, единственное, что их сближает с соседями, — первая буква фамилии автора, и переплетенную судьбу писателя извлечет, быть может,
слегка любопытный читатель или, что еще хуже, библиотекарь по долгу службы».
«Состояние, которое мы называем „изгнанием“, — пишет Бродский, — неимоверно ускоряет полет — или переход — писателя в уединение, в
изоляцию, в абсолютную перспективу, когда никого и ничего не остается между ним и языком. Эмиграция еженощно приводит в такие края, для
достижения которых при иных обстоятельствах потребовалась бы целая жизнь». Для писателя эмиграция или, как ее называет Бродский,
«состояние, которое мы называем „изгнанием“», является прежде всего языковым явлением: «он изгнан, он отступает в родной язык, который из
меча превращается в щит, в капсулу». (Вспомним сравнение Бродского, с которого начинается данный обзор.) То, что начиналось как «частное
дело, интимное общение с языком, становится судьбой и более того — одержимостью и долгом».
Эмиграция, бесспорно, ускоряет этот процесс, но даже при первом чтении тонкого эссе Бродского, написанного изысканно-сложным
английским языком, вспомнилось высказывание Блока о том, что «поэт — это не карьера, а судьба», строка Мандельштама: «Играй же на разрыв
аорты…» и стихи Пастернака:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
И опять-таки Блок: «Слопала-таки гугнивая матушка-Русь своего поросенка». Судьбы поэтов, в особенности, русских поэтов (хотя
вспоминается Овидий, Данте, Андре Шенье, Китс, Шелли, Байрон), — судьбы эти высоки и трагичны и, завораживая свой убийственной логикой,
требовали «полной гибели всерьез». XX век, большевистская революция в России и последовавшая за ней первая волна русской эмиграции
только ускорили этот процесс, хотя можно с уверенностью предсказать: И. А. Бунин, В. Набоков, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и многие-
многие другие изгнанники разделили бы судьбу Мандельштама и Гумилева, если бы остались, или судьбу Марины Цветаевой и Святополк-
Мирского, если бы вернулись.
Далее Бродский пишет: «У живого языка по определению склонность к центробежному движению, он стремится заполнить как можно
большее пространство и как можно больше пустоты. В каком-то смысле мы все трудимся над словарем, потому что литература — и есть словарь,