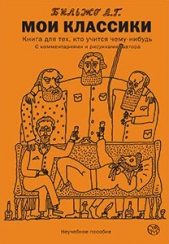«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели

«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели читать книгу онлайн
«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре. Отмечены вехи более чем столетней истории «Войны и мира». А порой наиболее интересен диалог сегодняшний— новая, неожиданная трактовка «Героя нашего времени», современное прочтение «Братьев Карамазовых» показывают всю неисчерпаемость великих шедевров русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Алеше, однако, не только "святость", но есть и карамазовщина, и бунтарство. Его незабвенная минута всеприятия далась ему тоже лишь ценой искушения. У него—свое собственное, ему одному в романе предназначенное искушение. Это искушение в том, что всю силу своей любви Алеша сосредоточил в старце. Он "уединился" от мира в эту любовь. В том и его вина, разделяемая им с братьями.
Алеше нечего противопоставить искусительной речи Ивана, кроме поцелуя, — как и в поэме Ивана только поцелуй служит ответом Инквизитору. Алеша бежит в страхе к своему "Pater Seraphicus", чтобы тот спас, "от него и навеки". Это момент слабости и предательства.
"Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь".
Алеша, которого и отец, и брат, и все только и называют "ангелом" и кому положено быть хранителем, в самый решительный момент на сутки напрочь забывает о брате (как и вообще о всей своей филантропии) и затворяется в собственных горестях и обидах. Он бросает брата, отказываясь быть хранителем и сторожем брату своему, и таким образом разделяет этот отказ и эту формулу со Смердяковым и Иваном. Иван укатил в Москву, Смердяков в притворной падучей, Алеша убежал в монастырь, хотя и не произносил, как они, каиновых слов. Дмитрий, возвратившийся из своей безумной поездки к Лягавому, всеми братьями брошен на произвол судьбы. Достоевскому особо было важно, что Алеша прозревает, что всякий всем "сторож" и все виноваты, что Алеша претворяет обиду свою в радость— когда вспоминает о брате.
Обида Алеши — от обманутого ожидания чуда. О чуде и чудесах много говорят в книге. И чуда ожидают. Но то чудо, которого ожидают, — оказывается ложным, обманчивым, да и само ожидание его исключает его; а чудо настоящее проходит невидимо, неведомо ни для кого. Пошатнувшийся, даже озлобившийся, обманувшийся в своем ожидании немедленного прославления усопшего наставника, приходит, словно перечеркивая все, Алеша к Грушеньке. И тут‑то начинаются истинные чудеса. Одно искреннее, простое, сострадающее и благочестивое движение Грушеньки "восстановило душу" Алеши — и он в ответ одним своим словом, назвав ее сестрою, потряс и просветлил ее. "Вот они где, наши чудеса‑то давешние, ожидаемые, совершились!" — злобствует Ракитин, ожидавший совсем не того.
Одно только, внезапное и чудесное, свободное движение души спасло Митю от преступления. Это‑то движение решает коллизию всего романа. В этом и его главный урок.
По обстоятельствам, по характеру, по всей логике Дмитрий должен был убить, готов был убить, не мог, в конце концов, не убить — и автор ставит его лицом к лицу с убийством. Но недаром повторял Митя: "Я чуду верю". Автор ставит это чудо, это свободное движение души Мити в центр сюжета романа, закладывает его как идею романа, как поворотный камень и как идею всей книги. Напомним, что Митя, по выражению прокурора, — это воплощенная "Россия непосредственная", и потому в нем, в этот его момент решения, решается и будущее России.
Для Достоевского в таком мгновении свободного решения, в его возможности—залог спасения России. Это то, что он противопоставляет "силе низости карамазовской". Ложное, внешнее чудо, порабощающее человека, — у Инквизитора; истинное чудо — чудо внутри себя. В нем‑то и истинная красота, "спасающая мир".
Отчаяние Алеши проявило в нем вдруг общекарамазовское: жалость к себе, желание утвердить свою волю, отказ принять жизнь, той воле не соответствующую. Помощь ему приходит от "грешницы", Грушеньки, протягивающей ему свою "луковку" сострадания. И во сне Алеши, следующем сразу за тем, себялюбие, бунт и жалость к себе из‑за обманувшего чуда уступят место истинному чуду радости приятия.
Если "всякий пред всеми за всех и за все виноват" и на каждом ответственность за зло, то в чем же эта ответственность? Излюбленная мысль Достоевского — что зло, прежде чем быть преодоленным в мире, должно быть преодолено в себе, так же, как прежде, чем может на деле быть достигнуто братство, надо самому стать братом всем. В себе же зло и небратское отношение к людям наиболее ясно проявляется — и в этом Достоевский предвосхитил многие идеи XX века— стремлением причинять боль. Собственно, сладострастие и мучительство у Достоевского всегда связаны; источник и того и другого — в "самолюбии", то есть в признании себя центром мироздания, как это прямо высказывает черт–солипсист.
Начало "самолюбия", неизбежно приходящее к желанию быть источником боли, способно замешаться у Достоевского в любой прекрасный порыв и исказить всякое высокое чувство: жалость, потребность справедливости, любовь — оно способно притвориться жалостью, справедливостью, любовью, логикой, добродетелью… Для Достоевского ответом может стать только одно: приятие. Полное приятие других, всех других, и себя в их глазах. Это означает не столько способность прощать, которой не пожелал Иван, сколько способность принимать прощение. Вот почему тут так важно чувство виноватости перед всем. Васиолек показал, что умение принимать несравненно важнее для автора, чем даже способность отдавать. Ведь вот Алешу совершенно не заботит, на чьи средства он живет, он не ущемлен, он легко принимает — какая противоположность другим!
Полный ответ автора Ивану и Инквизитору — и в речах Зосимы, и в образе Алеши, и в способности Дмитрия не совершить злодеяния, и в его начинающемся возрождении и приятии страдания, и в мальчишеском единении вокруг постели умирающего Илюшечки, но этот ответ — и в той печати, которую оставляет Великий инквизитор на Иване, на Смердякове. Для послевоенного восприятия книги было особенно важно, что Инквизитор — это Иван, это его мечта переделать мир так, чтобы не было страданий, это его возмездие человеку. По расставании с Алешей не случайно тогда "что‑то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому".
Иван уезжает сейчас за границу, горестно осознает Алеша, "чтобы к ним примкнуть", потому что он сам из той подпольной армии "умных людей", которые на деле готовы подправить Христа и на кого в начале книги намекал Миусов, говоря, что они страшнее всех прочих "анархистов, безбожников и революционеров". Ничего нет странного, что "Великого инквизитора" все чаще стали рассматривать и изучать, как сделал это в 1967 году современный философ Эллис Сандоз, в качестве примера "политического апокалипсиса".
Но если Великий инквизитор есть мечта Ивана о переделке мира, то пока что Смердяков — воплощение его идей, которое ему приходится видеть. Иван отдает свои мысли и Инквизитору, и Смердякову; он автор и одного, и другого.
С каким‑то скверным и тоскливым чувством распрощавшись с придуманным им иезуитом, Иван натыкается на Смердякова. Реальность книги Достоевского сталкивает его с ним, чтобы сказать: лакей Смердяков сидит в его душе, и именно этого человека и не может вынести его душа. Но вместо того чтоб крикнуть: "Прочь, негодяй", — Иван смиренно заговаривает с ним первым и не может оторваться от него, не смеет уйти, раздражается, бледнеет от злобы, приходит в исступление; Смердяков же — спокоен, уверен, почти строг. Ведь именно он, Иван, научил этого лакея так смотреть на жизнь: лакей сидит в его душе. И теперь лакей учит Ивана.
Реальность дразнит Ивана Смердяковым, Смердяков же дразнит его Чермашней. Весь его "свободный нравственный выбор" — главная тема книги — сводится к несущественному и пустяковому вопросу о том, ехать ли ему в Чермашню. Поехать ли ему продавать Черный лес за три тысячи — за столько, сколько припрятано для Грушеньки стариком Карамазовым, сколько нужно Мите, чтобы освободиться от невесты и Грушеньку увезти. Но Митя‑то считает, что лес его; Черный лес "Черномазовых" — символ всего того, из‑за чего соперничают отец и сын. И потому дилемма Ивана заключается в том, принять ли ответственность за брата и отца или повернуться к ним спиной. В поэме можно было примирять непримиримое и эффектно заканчивать сцену поцелуем. Но в действительной жизни приходится выбирать. Он может предотвратить отцеубийство и может дать злодеянию произойти своим чередом, и никакая добровольная "глупость" не отменит этот выбор. Вся нравственная "победа" Ивана в том, что, не заехав в Чермашню, он прямо отправился в Москву. "…И только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся.