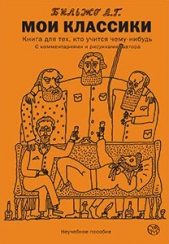«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели

«Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели читать книгу онлайн
«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре. Отмечены вехи более чем столетней истории «Войны и мира». А порой наиболее интересен диалог сегодняшний— новая, неожиданная трактовка «Героя нашего времени», современное прочтение «Братьев Карамазовых» показывают всю неисчерпаемость великих шедевров русской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В набросках к роману Иван замечает: "Где‑то в трактире говорим о такой ахинее. Это только в России возможно". В окончательном тексте расширено: "Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол… Ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие?"
Иван же предпочитает под пиво и под шампанское рассуждать о страданиях детей. Чем‑то похоже на "бесенка" Лизу, воображающую в слезах мучения ребенка и желающую при этом сидеть и кушать ананасный компот. Не кто иной, как Иван, подтвердил ей со смехом, что это в самом деле "хорошо".
Иван ничуть не обманывается в оценке таких пивных разговоров: "…все‑таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе". Но его это не смущает: "Я нарочно начал этот наш с тобой разговор как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди… Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее".
Отчего же выгоднее? Оттого, что "чем глупее, тем и яснее", что "глупость коротка и нехитра", а для Ивана сейчас неприемлемы никакие запутанные и долгие рассуждения, которые могут отвергнуть его простое и ясное чувство "неутоленного негодования", позволяющее ему выступить обвинителем, дающее ему право встать над миром. В надрыве негодования Иван хочет быть глупым. Исповедь его должна звучать под аккомпанемент открываемого пива, пьяных криков, в виду поминутно шныряющих половых. Это Достоевский хотел подчеркнуть читавшим его, но никто его тогда не понял.
Это обвинение Достоевского тем "мальчишкам", чьим изображением он считал Ивана Карамазова, да и их учителям тоже, "потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь тоже русские мальчики". Обвинение в том, что все их разговоры о "вековечных вопросах", о возмущении страданием, о "переделке всего человечества по новому штату" сводятся, как бы ни были они "оригинальны", к спорам желторотых студентов в трактире. "Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им". Из криков в пивной, конечно, может выйти и бунт, и путч, и мировое отчаяние, и простые, ясные руководства к действию, не может только выйти честности перед собой.
Трактир как ситуация жизни, как символ жизнеотношения — не место для бесед о страдании и оправдании мира. Вот что хочет сказать писатель. Достоевский опровергает Ивана не логикой, как иногда пытались показать, — логика‑то на стороне Ивана, — а художническим раскрытием подоплеки его мысли. Алеше, которому "неприлично" было появляться в трактире в его платье, говорящем о другом "месте", нечем опровергнуть Ивана. Вопрос поставлен так "глупо", что настоящего ответа на него быть не может. А лицемерить Алеша не станет.
Но все это не было прочитано никем из современников Достоевского.
То, что говорит Иван в главе "Бунт", в сущности, сводится к тому, что просто не имеет значения, есть ли смысл у этих его "фактов" и у этой невыносимой реальности. "Иван не говорит, что истины нет, — писал Камю, — он говорит, что, если истина существует, она может быть только неприемлемой". Наличие смысла — каким бы он ни был — для него ничего не меняет, добавляет Васиолек. Иван не хочет ни обоснований, ни утешений, ни христианского прощения. Он отказывается признать, что присутствие смысла в страдании что‑либо меняет в сущности страдания, в "эвклидовой" неопровержимости боли и муки. Ему нужен другой ответ на эти мучения неповинных, ему нужно возмездие, не где‑то "в мировом финале", а сейчас. "И возмездие не в бесконечности где‑нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидел". Но возмездие, конечно, не от самого этого мира, который в наказание за затравленного собаками ребенка лишает истязателя права распоряжаться имениями. Какое же и чье же тогда это возмездие? Ответ один — его самого, Ивана. "Великим инквизитором" Иван осуществляет свою мечту о возмездии.
Знаменитый английский писатель Д. Г. Лоуренс впервые прочел "Великого инквизитора" в 1913 году, когда ему сказали, что там — "ключ ко всему Достоевскому". Тогда он увидел в Легенде лишь цинически-сатанинское позерство. Но с каждым новым чтением, рассказывает Д. Г. Лоуренс, она действовала на него все более и более угнетающе. И Лоуренс не был одинок в таком ее восприятии.
"Великий инквизитор", пожалуй, самое знаменитое место во всем творчестве Достоевского.
Летом 1879 года Достоевский, чуть ли не как завещание, продиктовал В. Ф. Пуцыковичу, что с этой Легендой он "достиг кульминационного пункта в своей литературной деятельности". Со слов Достоевского Пуцыкович сообщил, что тот выносил в своей душе тему этой легенды почти в течение всей жизни. Автор сам указывал, что книга 5–я ("Pro и contra") "в моем воззрении есть кульминационная точка романа".
Довольно скоро после выхода романа Легенде о Великом инквизиторе В. В. Розанов посвятил отдельную книгу. Не менее сильное впечатление произвела Легенда на Западе. Особенно на литераторов. Даже первый, крайне неудовлетворительный французский перевод Гальперина–Каминского и Мориса вдохновил Леконта де Лиля на создание поэмы "Доводы святого отца", развивающей аргументацию Инквизитора уже от имени папы римского. Доводы из той же Легенды появляются и в трагедии Вилье де Лиль Адана "Аксель". Нечего и говорить, что, изъятая из контекста, Легенда воспринималась как авторская декларация и в качестве таковой вызывала мрачный восторг.
Интересно, что именно для западных литераторов сама по себе идея не должна была показаться новой. Тема "возвращающегося Христа" есть у Вольтера, Гете, Шиллера, Ж. — П. Рихтера, Бальзака, Гюго, Виньи — кстати, всех этих авторов хорошо знал Достоевский. И самого Инквизитора он воспринимал нерусским и антирусским, связанным с папской идеей прежде всего, хотя проглядывают в нем черты скорее византийские, чем римские. Впрочем, Г. Чулков считал, что одним из его прототипов мог быть Победоносцев.
Но влияние этой Легенды, как и литература, ею порожденная, — огромно. Чаще всего ранние критики Достоевского считали, что он солидаризируется с Инквизитором, и в этом сошлись даже такие совсем несходные люди, как М. Антонович и В. Розанов. Мнение же Лоуренса типично для тех, кто видит в этой сцене Инквизитора победителем. С каждым новым чтением английский литератор, певец стихийноприродного начала в человеке, убеждался, что Достоевский— то есть его Великий инквизитор—прав. "Я перечитываю "Великого инквизитора", и у меня падает сердце. Я и сейчас вижу чуточку цинически-сатанинского позерства, но под этим я слышу окончательное опровержение Христа. И это разрушительный итог, потому что он подтвержден долгим опытом человечества. Тут реальность против иллюзий, и иллюзии— у Иисуса, тогда как само течение времени опровергает его реальностью… Нельзя сомневаться, что Инквизитор произносит окончательное суждение Достоевского об Иисусе. Это суждение, увы, таково: Иисус, ты ошибся, людям приходится поправлять тебя. И Иисус в конце молчаливо соглашается с Инквизитором, целуя его, как и Алеша — целует Ивана".
Как ни больно и ни страшно людям, подобным Лоуренсу, становиться на сторону Инквизитора — приходится признавать правду, то есть признавать "факты". И хотя мы знаем, что Достоевский в действительности не был заодно с Инквизитором, поразительно, как много критиков совершенно противоположных направлений и разных культур считали, что это и есть его оценка человечества. Да и возмущение многих умных, выдающихся даже читателей этой оценкой свидетельствует, сколь сильно она подана в романе.