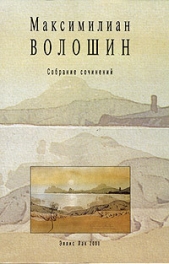Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Махроть здесь — примерно то же, что Недотыкомка в «Мелком бесе» Ф. Сологуба или «норма» в романе В. Сорокина «Норма», — нечто вездесущее и неуловимое, алгебраический образ, некий «икс», к которому подстраиваются все словесные уравнения. Но если у Сологуба Недотыкомка наделена некоей психической достоверностью (маниакальная подозрительность и безумие Передонова), то норма у Сорокина и махроть у Пригова чисто концептуальны. Это концепт некоей абстрактной сущности, которая присутствует во всем совершенно прямо, не скрываясь, без всяких посредников. Это «всечто» примерно того же порядка, что материя в советском материализме. Что есть материя? Все есть материя. И хлеб — это материя, и поле, и человек, и мозг, и мысль, и государство — куда ни ткнешь, попадаешь всюду в одну только материю. Это знак сорванного сознания, которое кратчайшим путем, минуя все опосредования и различие уровней, «проскакивает» от конкретнейшей вещи к абстрактнейшему принципу, торжествуя свою всепроникающую способность. Задавая смутные вопросы о последнем, всеобъемлющем смысле всего, оно получает кратчайшие ответы: «все — материя», или «все есть Бог», или «все есть норма». Это может быть атеистическое или религиозное сознание, но оно всегда срывает резьбу на процессе мышления, оно не допускает частичных, промежуточных, неисчерпывающих, «нефилософских» ответов. Оно философично, точнее, любомудренно, именно потому, что имеет прямой запрос на «самое главное» — и легко его находит. Оно томится философским вопрошанием, оно пребывает в тоске, но эта тоска мгновенно переходит в свою противоположность, эйфорию найденного решения. Оно задает смутные, «детские» вопросы о мире: «а почему комар пьет человеческую кровь», «а зачем человек живет», «а почему Земля круглая» и т. д. — и дает на них кратчайшие ответы: потому что так устроил Бог или природа, потому что таков закон материи и т. д. Поиск вездесущего, всепронизывающего «икса» — это рефлекс не только советской идеологии, но и постсоветской конспирологии, которая законно является наследницей первой. Разница в том, что если предмет идеологии — всечто, некая первоматерия, субстанция или закон истории, то предмет конспирологии — всекто, некий всемогущий субъект истории, тайно ею управляющий (но при этом человеческий субъект, в отличие от сверхъестественного субъекта религии).
У Пригова органически соединяются: 1) разорванное сознание интеллигента-одиночки, лишнего человека, который постоянно сталкивается с феноменами чуждости самому себе, неделикатности окружающего мира, над которым он возвышается мыслью и вместе с тем находится внутри его подавляющего безразличия, и 2) сорванное сознание человека из народа, бодрого, упоенного, как бы опиумно счастливого, знающего разгадку всех загадок. Разорванное сознание является по существу несчастным, оно не может соединить свои начала и концы. Оно поднимается над собой, созерцает и критикует себя, не может найти успокоения в себе. Это та крайность скептического, растерянного сознания, которую Гегель описал в «Феноменологии духа» как несчастное, «раздвоенное внутри себя сознание» [271]. Сорванное сознание, напротив, является счастливым, даже эйфорически приподнятым. Оно одолевает внутри себя всякую тревогу, оно моментально приходит к финальным решениям.
Милиционер как элемент в общественно-профессиональной иерархии советского общества у Пригова превращается в Милицанера, т. е. одновременно снижается до просторечия (милицанер) и поднимается до большой буквы (Милицанер), возводится в некий абсолют, фигуру всемирного начальника, стража мирового порядка, демиурга. Если «махроть» — приговское «всечто», то Милицанер — «всекто», т. е. универсальная фигура, всюду являющая себя, за все отвечающая, держащая все под своим наблюдением и контролем. Такая двойная трансформация: опрощение и возвеличение — и есть фигура народного любомудрия у Пригова. Образ или слово одновременно «онароднивается» (снижается, опросторечивается) и «омудривается» (философизируется, универсализируется), чем и достигается его принадлежность «философии народа, народом и для народа» (перефразируя известную мысль А. Линкольна о демократии как власти народа, осуществляемой народом и для народа).
Пригов часто прибегает к возвышенной наукообразной терминологии, поскольку она полуграмотна и наглядно нейтрализует оппозицию «интеллигенция — народ»: например — «Милицанер константен меж землей и небом». Если же Милицанер вдруг оказался убийцей, то в отношении него тоже следует философски четкий вывод:
Заметим, что и графика, и пунктуация приговского стиха соответствуют этому двойному жесту опрощения-омудрения. С одной стороны, Пригов либо вообще пропускает знаки препинания, либо ставит их избирательно, «как Бог на душу положит». Например, он выделяет сравнительные обороты и обращения запятой только с одной стороны, имитируя тем самым народную небрежность, недоученность, «гимназиев не проходили». С другой стороны, все стихи начинаются с прописной буквы, как в «большой», классической, поэзии, «как у Пушкина». Опять-таки двойной жест: снижения — возвышения, неграмотности и пафосности.
В другом известном «дидактическом» стихотворении Пригова женщина в переполненном вагоне метро лягает лирического героя ногой, а тот, ответив ей тем же, немедленно просит прощения:
Это еще один пример ликующего, сорванного сознания, которое на мелкобытовую ситуацию отвечает провозглашением священного гуманного принципа «высокой личности». Заметим, что «сорванное» сознание вообще склонно к насилию, сначала философическому, а затем и практическому, поскольку немедленное внедрение общего принципа в жизнь, умственное обобществление частностей и подведение их под «всечто» не дается без принуждения (разорванное сознание, напротив, страдает комплексом вины и жертвы). В приговской сценке насилие проявляется двояко: во-первых, как «естественное» насилие, как взаимное лягание пассажиров, и, во-вторых, как насилие принципа над этим естественным насилием, как самовозведение героя в более высокий нравственный ранг. Испрашивая прощения, приговский герой морально лягает уже физически «лягнутую» женщину, то есть бьет ее вдвойне.
Пригов, конечно, не просто воспроизводит, но остраняет и утрирует стиль мещанского «любомудрия», оставаясь при этом в рамках «мерцающей эстетики». Дистанция между автором и лирическим героем то удлиняется, то сокращается, концептуальные (невидимые) кавычки вокруг его текстов то показываются, то исчезают — это словно бы односторонние кавычки, так что своя речь, переходя в чужую, не всегда сигнализирует, где она из нее выходит. При этом Пригов прекрасно осознает, какой тип мышления он подвергает концептуализации. Вот его краткое «Предуведомление» к сборнику «Атомы нашей жизни»: