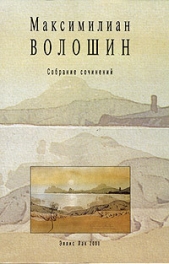Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вывод: в практике жизни, в терпении, добре и взаимной предупредительности маленькие люди стоят выше философов. Приблизительно таково же мнение Достоевского или Толстого о мужиках их родины: в своей практической жизни они более философы, они проявляют больше мужества в своем преодолении необходимости…
Считается, что философия — деятельность высоко рефлективного и саморефлективного сознания, поднявшегося до обобщающих понятий о мироздании в целом. Может ли философия быть народной? Может ли философствовать простой, необразованный, неграмотный человек? Тяга к метафизическим обобщениям о «природе вещей» проявляется не только на высших интеллектуальных уровнях, но и в первично-рефлексивных побуждениях бессознательного, когда думается «обо всем и ни о чем». Ребенок-почемучка, непрерывно задающий вопросы о смысле всего, более философичен, чем взрослый специалист в какой-то узкой области знания. Такая философия — может быть, точнее было бы назвать ее «философизмом» или «любомудрием» — доспециальна и надспециальна. Эта доспециальная, низовая, наивная, фольклорная философия практически не подвергалась изучению. А между тем, как писал Н. Бердяев: «Русскому народу свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера — о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божье» [267].
Мне представляется, что тот «безграмотный», неясный, многодумный философизм, который, как отмечали Достоевский и Бердяев, вообще характерен для русского народа, находит в приговском концептуализме почти фольклорное выражение и составляет едва ли не главную черту его лирического героя. Правда, это уже не столько деревенский, сколько городской фольклор: сознание, прошедшее через обработку газетной, книжно-лоточной, телевизионной продукцией, с ее смесью штампов всех массовых идеологий. Приговские лирические концепты выражают те примитивные, хаотические движения души, «полубормотания», которые уже сформированы медиа-средой. Они не могут адекватно выразиться в интеллектуально членораздельной форме — и вместе с тем не могут выразиться ни в чем, кроме той же идеологемы, в высшей степени, до абсурда абстрактной. Дремучая, корявая речь, носительница, или, скорее, «утопленница» народного бессознательного, выплывает в зону интеллигентского сознания, насыщенного всякими «мыслимостями» философско-идеологически-теологического свойства.
Как ни странно это прозвучит, но приговская поэзия — это в значительной своей части философская лирика, выходящая на уровень некоей метафизической или теологической проблемы и, однако, не перестающая быть сколком мещанского сознания, — своего рода «мещанский трактат», или «мещанская медитация», как бывает «мещанский романс». Вот несколько стихотворных «микротрактатов» Дмитрия Александровича Пригова периода «застоя» — как бы застывшего в зените солнца коммунистической эпохи.
Этот живой, почти животный философизм на уровне бурчания, мычания, бормотания позволяет многое понять в феномене российского коммунизма, который рос из сора дремучего, почти бессознательного народного любомудрия. Из таких глубинно целевых и причинных конструкций, как «жизнь… она, конечно…», «а много ли человеку надо?», «да ведь и я ведь»… Из той точки, где мыслительство еще не отделилось от урчания в животе и от почесывания в затылке. Ранним и глубочайшим выразителем этого многодумного бессознательного был Андрей Платонов, чьи герои — Александр Дванов, Копенкин, Вощев — «истомлены мыслью и бессмысленностью».
Если даже взять только зачины приговских стихов, обнаружится, что многие из них утробно медитативны, — это своего рода философические лубки. «Вся жизнь исполнена опасностей…», «Посредине мирозданья…», «Наша жизнь кончается…», «Народ с одной понятен стороны…», «Господь листает книгу жизни…», «Нам всем грозит свобода…» По случаю женитьбы своего приятеля Пригов советует ему законно оформить узы брака, приводя глубоко метафизический аргумент:
Представляется, что поэтика «дремучего глубокомыслия» у Пригова отчасти происходит из «Голубиной книги», древнерусского духовного стиха, слагаемого и переносимого «каликами перехожими». Сам Дмитрий Александрович легко вживается в образ такого «калики», глубокомалограмотного, взволнованного простыми философемами, распевающего духовный стих на новый лад. Сравним:
В обоих текстах — интонационный захлеб вопрошания о «последних вещах». Конечно, у Пригова «первая вещь», которая смущает лирического героя (лишняя цифра на счетчике), вполне прозаична, но это не мешает встроить ее — пародически — в большой стиль народного мудрствования.
Есть у Пригова целая поэма про «Махроть всея Руси». Что такое «махроть», остается неясным, это нечто или некто, а вернее, всечто или всекто [270]. Она «махроть-трава, с виду синяя, снутри красная», она «красивая», «она святая крыса», она встает перед Рейганом, она появляется всюду, где приложится голова лирического героя, она проходит «кошачьей походкой», она «глазиком блезнула [так! — М.Э.] и губки язычком лизнула», она «великий зверь», она «плывет над нашим полушарьем», она таится в винной чарке, она лезет, «б…», из «тиши и благодати».