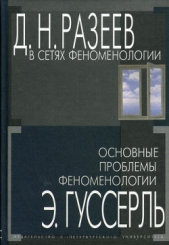Пригов и концептуализм

Пригов и концептуализм читать книгу онлайн
Сборник включает в себя материалы III Приговских чтений, состоявшихся в 2012 году в Венеции и Москве по инициативе Фонда Д. А. Пригова и Лаборатории Д. А. Пригова РГГУ В этом смысле сборник логично продолжает издание «Неканонический классик», вышедшее в «Новом литературном обозрении» в 2010 году. В центре внимания авторов находится творчество Дмитрия Александровича Пригова как масштабный антропологический проект, рассматриваемый на пересечении разных культурных контекстов — философских исканий XX века, мирового концептуализма, феноменологии визуальности и телесности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С точки зрения Некрасова, современная поэзия должна радикально обновлять восприятие языка, прежде искаженного тоталитарными режимами и «большими идеологиями», и опосредованно — восприятие физического мира.
Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это
А
Водички
«Веточка…», до 1968
Понимание «пространственности» стихотворения у Некрасова, таким образом, существенно отличалось от приговского (хотя бы и не выраженного эксплицитно): для Некрасова «пространственность» означала проблематизацию материальности текста, для Пригова — онтологическую неполноту любого высказывания в искусстве («Нет последних истин — все истины предпоследние / И в смысле истинности и в смысле порядка следования…» — из стихотворения «Нет последних истин…», до 1989). Такое отношение к пространственности текста и к процессу творчества Некрасов воспринимал как механизацию приема и отказ от желания прорваться от «материи» к «энергии», т. е. как сдачу эстетических позиций.
Однако с другой позиции подход Пригова может быть понят как обновление, а не отказ. Отношение к языку в его творчестве было гораздо более отчужденным, чем у Некрасова. Это давало Пригову гораздо большую гибкость в моделировании уже существующих и новых языков и в исследовании их границ. В произведениях Некрасова язык по степени чуждости его авторскому «я» может быть разделен в целом всего на три уровня: личный язык — язык общества — язык власти: групп, которые претендуют на власть или уже находятся у власти (для Некрасова между ними было мало разницы). Для стихотворений Пригова такая классификация была бы гораздо более гибкой — именно потому, что в зрелый период для него личного языка не было, или, точнее, язык, который Пригов мог бы воспринимать как «личный», оказывался для него столь же отчужденным, как и все остальные.
4
Выше уже кратко было сказано о том, что поэтика Некрасова была утопична по своим задачам. Утопизм Некрасова очевиден из его поэзии и публицистики, но сложен по своему составу. Прежде всего, это утопизм «естественного» языка, надежда на полное понимание «негромкого» художественного жеста со стороны читателя, требование совершенно равноправных, основанных только на «гамбургском счете» отношений в литературно-художественной среде. В этом утопизме Некрасов — шестидесятник (что и признавал в последние годы жизни[455]), только неподцензурный и даже на фоне других шестидесятников выделявшийся последовательностью своего утопизма, который был чертой не идеологии, а поэтики.
Однако в эстетике Некрасова присутствовал еще один утопический элемент — стремление создать, выработать, вообразить нового автора, чье творчество могло бы изменить отношения в обществе. В московском концептуализме именно Некрасов и Пригов больше всех остальных стремились осмыслить, как может измениться позиция «автора стихотворений» в современной художественной ситуации. Именно эта общность интересов и стала причиной ревнивого и, в последние два десятилетия жизни, неприязненного отношения Некрасова к Пригову.
Некрасов постоянно возвращался в своих статьях к идее о том, что постмодернизм — это не только течение в искусстве, а «состояние умов», которое «нажить нужно, наработать»[456]. Пригов, начиная с еще относительно ранних теоретических сочинений[457], неоднократно писал, что в культуре происходит радикальный антропологический переход, вызванный завершением всех великих проектов Нового времени — в том числе и «человека» как проекта. В этой постановке вопроса можно усмотреть перекличку со знаменитым финалом трактата Мишеля Фуко «Слова и вещи» — о том, что нововременная концепция человека «исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[458]; недаром в 2000-е гг. Пригов все чаще употреблял для обозначения своих задач словосочетание «новая антропология». В этих условиях художник должен «пойти на опережение» и отрефлексировать задачи, которые встанут перед обществом завтра.
В своем интервью «Отходы деятельности центрального фантома» Пригов предполагал, что центральным в его деятельности является сотворение нового типа авторства:
«<…> для меня все [мои] виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП — Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома. В будущем, может быть, возникнет специальная оптика для отслеживания данного фантома. Пока же она отсутствует, посему почти невозможно следить и запечатлевать эту центральную — фантомную, поведенческую, стратегическую — зону деятельности. Современное литературоведение обладает оптикой слежения только за текстами. А когда оно смотрит в эту самую обозначенную центральную зону, перед ним просто несфокусированное мутное пятно. Литературоведы не могут ничего разобрать. Посему они и занимаются отдельными окаменевшими текстами. Но если со временем наука или исследователи изобретут оптику, которая могла бы считывать вот эту центральную зону, тогда все остальное, как и было сказано, предстанет им как пусть порой и привлекательные и даже кажущиеся самоотдельными, но все-таки случайные отходы деятельности вот этой центральной зоны, где происходят основные поведенческие события»[459].
Приговская поэтика тоже была утопичной: она предполагала свободу «я», «парящего» между различными самоидентификациями. Такая свобода давала возможность остранять любой авторский стиль. Из беседы Д. А. Пригова с А. Парщиковым 1997 г.:
«Есть некоторые, кто говорит, что поэт — это тот, кто тонко чувствует, поэт — это тот, кто пробуждает светлые чувства, каждый по-своему. Поэт — это тот… а ты что делаешь? Мне [в таких случаях] всегда приходит [в голову] такой анекдот: приехал портной и написал, что он лучший портной в городе, потом другой о себе написал: лучший портной Европы, приехал следующий и написал: лучший портной в мире… А еще один написал, что он лучший портной на этой улице. Я, в отличие от всех поэтов, [определяю себя иначе: поэт — ] это тот, кто ведет себя поэтически. [Понимание поэта как] поведенческой модели ставит в положение частного случая все остальные образы поэта в обществе.
Искусство пришло к ситуации, когда оно уперлось в идентификацию творческой личности; [искусство — ] это только твое личное поведение, которое может быть сформировано как поэтическое [поведение], как художническое, как [поведение] музыканта, как угодно. Предельный уровень явлен наконец — но и уровни теряют смысл, есть только смысл некой конвенции. Вот кто-то приехал и претендовал на [место] лучшего в городе, лучшего в Европе, во всем мире, а [потом] приехал последний [портной] и сказал: я лучший только потому, что в наших пределах принята такая конвенция. Я себя осмысленно веду, и мои амбиции в этом отношении выше не потому, что я территориальный претендент, а потому, что я претендую на вас на всех. Я являю вас всех! Вот так этот анекдот как-то отражает картину в современном искусстве»[460].
Необходимым условием такой свободы был утопически понимаемый профессионализм — способность Пригова, владея техникой наивного письма, все же строить тексты последовательно выдерживаемого стиля и размера. Характерно, что Пригов, используя приемы наивного письма, чаще «подрубает» слово под заданный ритм («милицанер»), чем расшатывает уже имеющийся. Если же ритм расшатан, то это всегда выглядит как очень нарочитый жест.
Эта утопия профессионализма бросается в глаза при сравнении с одним из литературных «детей» и оппонентов Пригова — Германом Лукомниковым, который в начале 2000-х публично спросил у него на литературном вечере: «Вы говорите, Дмитрий Александрович, что вы каждый день пишете по три стихотворения. Прочтите, пожалуйста, стихотворение, написанное сегодня». Пригов замялся и ответил, что предъявить такое произведение не может, так как написанное им в этот день еще не отредактировано. Лукомников сказал: «А вот я могу», — и прочитал несколько стихотворений. На своих выступлениях первой половины 2000-х после этого диалога Лукомников читал сначала новые стихи, а потом черновые записи и варианты. Такая организация литературного вечера напоминала оглавление тома из воображаемого академического собрания сочинений и в то же время призвана была показать, что между автором и слушателями нет никаких опосредующих культурных преград[461]. Впрочем, тут нет противоречия: публикация черновиков и вариантов в академических изданиях в сегодняшнем их понимании как раз и необходима для более точного понимания генезиса текста, а через него — самосознания публикуемого автора, т. е. — для большей проницаемости культурных барьеров[462].